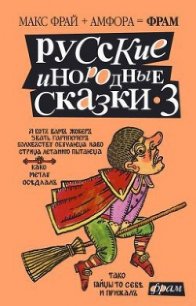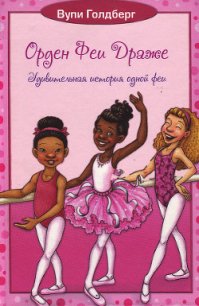Нет - Горалик Линор (книги онлайн полные версии txt) 📗
Как только загорается лампочка, сразу понимаешь, что именно может не получиться: может не получиться не думать о постороннем, например, о том, что можно было согласиться на предложение Волчека, а не чистоплюйствовать, – по крайней мере, не отвечать так с ходу отказом, – и тогда не лежал бы ради восьмисот азов тут, не чувствовал бы у себя за спиной Смерть в белом халатике медсестры. Не думай сейчас обо всем этом, не думай, а то все испортишь и вообще ничего не получишь. Давай, начинай: кошка-собака, кошка-собака, кошка-собака. Кошка получается нигерийская – тонкая, остроскулая, с недобрым взглядом и с большими, по-тигриному круглыми лапами; собака – нормальная, такой вполне беспородный барбос лохматый, но почему-то с ярко-красными, немигающими, как лампочки, глазами; нестрашными, но странными донельзя; ну что же делать, сказали – одну и ту же – придется теперь опять представлять его себе после кошки, у которой – сейчас понятно – окрас пятнистый, видимо, морф или искусственная порода, и морда, оказывается, совсем не злая, просто из-за высоких скул и из-за худобы… собака смотрит внимательно-внимательно, но сидит молча, не лает… кошка перебирает лапами, ложится сфинксом…
Почему вдруг такое острое чувство смерти? Потому что калька, говоришь себе, это вообще знак смертности, прижизненная посмертная маска с твоего мозга, – все, что ты знал и умел, все, что опытом приобрел, записывается на… на что-то, на какой-то хитрый носитель, сейчас не помню, – помню, что это какой-то гипербион, мегабион, квази, но не бион, черт, нет, не помню, совсем не помню. Когда Щ сказал – ищут доноров, видел в газете, один НИИ собирает кальки, – я даже не подумал, что он имеет в виду – самим сдаться в доноры, подумал – он рассказывает для прикола. Мало ли калек, сказал, зачем их снимать, вон пусть возятся с нобелевскими лауреатами, обладателями премии Рихтера, лауреатами «ИнтеЛайфа». Эээ, сказал Щ, это бы они рады, но это им хрен, это закон запрещает. Закон, сказал Щ, запрещает трогать кальки до смерти – вообще, а после смерти можно только на носителя надевать. А им надо изучать, а по закону почти нет таких калек, которые можно изучать, понимаешь? То есть ты им подпишешь бумагу, что ты разрешаешь, вопреки закону, ее использовать, или что-то такое. Господи, сказал я ему тогда, да калька же стоит каких-то страшных денег, их же делают гениям и президентам. Ну пиздато же, сказал Щ, гениям, президентам и нам с тобой. Зачем им люди с улицы? – спросил я тогда. А им это все равно, сказал Щ, у тебя же есть знания, приобретенные опытом? Значит, их можно целиком на кальку записать и потом изучать – что там они хотят изучать. А когда я умру, с калькой будет что? – Передадут тем, кого ты на бумаге укажешь. Родственникам то есть, мужского пола, если они захотят. Мне вот некого вписать, я поэтому особо ценный, калька у них навсегда останется; но я думаю, что ты тоже подойдешь. Ну давай, слушай, позвоним, если ты подойдешь – это восемьсот азов за нифига. Тебе что, лишним будет? Мне было нелишним. Мягкий матрас, восемь электродов, ласковая медсестра, чувство близкой смерти, надо перестать отвлекаться от кошки с собакой.
В список носителей у меня автоматически попадали мамин племянник Женя из Архангельска и Виталик. Я мог отменить любого из них, но не стал – мне было достаточно все равно, что будет происходить после моей смерти, да и кому могут понадобиться мои умения-знания – этого я тоже представить себе не мог, чай, не нобелевский лауреат. Так что, скорее всего, думалось, умри я – они бы все равно отказались от этой шебутни, да, теперь я представляю себе, почему институт хотел доноров с улицы, наши со Щ кальки – они никому не нужны ни сейчас, ни потом; это, почитай, вечная собственность института – выгодно, удобно. Навсегда у них останешься ты, кошка, с твоим странным пятнистым окрасом и правым глазом, чуть менее узким, чем левый, и ты, собака, станешь теперь их вечной заложницей, и, может, десятилетиями будут теперь здешние гуру во главе с проводившим осмотр нас на предмет здоровья профессором Львовским биться над загадкой твоих красных глаз – впрочем, я ведь совсем не представляю себе, что именно видно на кальке, может, и не узнают они ни о какой кошке, ни о какой собаке, может, и не почувствуют они, как мне сейчас неприятно это снятие посмертной маски, как жутковато мне от того, что калька с моей личности – нет, нет, ни в коем случае не личности, мы все знаем, что калька – это не личность, это просто запись некоторых участков мозга, только того, что приобретено опытом в качестве навыков и знаний, никакой личности, никакой души, не приведи боже, – но как же мне сейчас страшно и неловко от того, что я делаю нечто вроде предсмертных приготовлений, от того, что я сейчас вынужден, заставлен думать о смерти, о своей смерти, о смерти Щ, который лежит с электродиками на голове в соседней камере, представляет себе собаку и кошку, собаку и кошку… Кошка смотрит на меня жалобно, собака придвигается ближе. Не смотри, шепчу, на меня, пожалуйста, кошка, и ты не смотри, собака.
Глава 26
Город-сказка, город-мечта. Даже мысль о том, что сегодня твой показ (впервые в жизни на большом экране; в животе порхают бабочки, в сердце колотится канарейка), не подтачивает блаженства, замешанного на библейском зное, белом камне, сладостных ожиданиях. На маленькую итальянскую булочку нежно ложится топленое масло, итальянский кофе жарится на решетке, капает «Лизмо Бис» (три года назад плакала навзрыд на их концерте в Лос-Анджелесе – узнала от случайно встреченной одноклассницы, что у давней, давней, давно забытой школьной подруги умер сын, – и вдруг прорвало). Стыдно, очень стыдно пижонить – но никак не удержаться: не просто раскрываешь газету с описанием фестиваля, но хмыкаешь, разглядывая фотографии с церемонии открытия, и всем своим видом даешь понять (кому? единственному официанту! выпендрежница…), что ты-то человек сведущий, тебе-то тут все как родные, ты каждую рожу знаешь, а журналисты – да что они понимают в подноготной порнобизнеса, в наших профессиональных секретах… Слаще всего – программа фестиваля на последней странице (до сих пор невозможно поверить, вернее, трудно вообразить: главная иноязычная газета страны с программой чилльного фестиваля, с подробным описанием фильмов, прошедших в первый день, с рекламой к ожидаемому через месяц крупнобюджетному зоофилическому изыску Начи Хамураппи). Большая статья про «фурри» – оказывается, еще до всяких зооморфов снимали такой жанр, в Японии и в Китае в основном, и в основном, конечно, мультики, качественный грим был дороговат. Странно даже подумать, что когда-то в Японии и Китае снимали такое теплое, мягкое и ласковое. Сейчас вся японская порнография – это «техно», какие-то чудовищные машины, и иногда в кадре с трудом удается меж шестеренок живое тело разглядеть, а в Китае все – ну, может, кроме Ситника, – снимают monster sex, оккупировали рынок целиком, это даже я знаю. А в программе – слаще всего увидеть «Дикую жизнь» со своей пусть и мелкими иероглифами, но внятно набранной фамилией в качестве исполнительницы главной роли. А помимо всего этого – сладко узнавать морды, виденные на церемонии, и кое-кто уже даже представлен, и кое-кто уже даже обратил внимание, и даже в середине, вот, в статье, описывающей весь блеск (пускай слегка чрезмерный, но не без стиля все-таки, согласимся) церемонии открытия, читаем: «Вупи Накамура, дебютантка, привезенная Бо со товарищи покрасоваться перед камерами, на вопрос о целях ее пребывания на фестивале ответила: „Засветиться“. Приятно, что не дура. Жалко, что не красавица». Трогательный еврейский мальчик, говорит, как все, кажется, местные, с очень жестким акцентом, с ужасным раскатистым «х». Хххххипперштейн. Странно: «не дура» польстило, а «не красавица» не задело. Даже наоборот: слишком много там было юных морфированных красавиц. Чувствуешь себя приятным тридцатилетним безобразием.
– Чеооорт, почему на этих фотографиях у меня никогда нет груди?
Наказание тебе за выпендреж: как на фотографии хмыкать, так ты круче всех, а как станет перед тобой живая Афелия Ковальски – так «меее… мееее…»