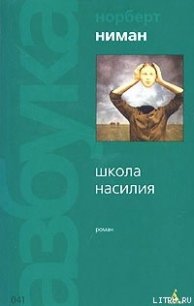INFERNALIANA. Французская готическая проза XVIII–XIX веков - Казот Жак (чтение книг .TXT) 📗
Забавная и тонкая пародийная интерпретация сюжета о «потустороннем браке» представлена в маленькой новелле Жерара де Нерваля «Зеленое чудовище»: спустившись в заколдованный винный погреб, отважный сержант становится свидетелем «бала бутылок» — одни пляшут за кавалеров, другие за дам. Вздумав протанцевать с одной из последних, он, однако, не сумел удержать ее в руках и в итоге вместо «женской» бутылки (невесты из подземного царства) вернулся наверх с «мужской», которая затем сделалась его соперником в браке и отцом чудовищного отпрыска. Интересно, что «зеленое чудовище» исчезает из дома своих «родителей», достигнув 13-ти лет — пубертатного возраста, то есть сделавшись само воплощением магического фаллоса, вынесенного сержантом из погреба в виде фетиша — зеленой бутылки. Весь сюжет представляет собой, таким образом, историю неудачного «потустороннего брака», осложненного появлением двойника-соперника и символической кастрацией незадачливого героя. Впрочем, все это вполне может быть истолковано и как буквальная реализация выражения «напиться до зеленых чертей»…
Действительно, отличительной чертой готической прозы всегда является возможность такого «второго» толкования, разрушающего магические структуры. При желании можно оставаться слепым к извивам инопространства, смотреть на вещи в ясной и прямой рациональной перспективе, не обращая внимания на готические ужасы или же объясняя их обыкновенными иллюзиями, стечениями обстоятельств и т. д. Именно такой взгляд предписывается рационалистической культурой XIX века, культурой буржуазного общества, свято верующего в универсальную применимость своих денежных эквивалентов, своих либеральных конституций, своих позитивистских научных идей. Такая культура игнорирует бессознательные комплексы (тем самым, кстати, и порождая их у людей в массовом количестве) и презрительно третирует архаические верования, на которых зиждутся сюжеты готической прозы. И потому в литературном произведении завязывается настоящая борьба, в ходе которой культура старается подавить, подчинить своему господству язык инопространства, не дать ему изречься свободно и самостоятельно, заключить его в рамки иных, более «благонадежных» языков.
Именно поэтому так важны в готической прозе обрамляющие композиционные элементы — предисловия и послесловия, порой намеренно сухие и «занудные» по содержанию. Например, Нодье обрамляет своего «Смарру» двумя предисловиями — одно из них, правда, отсутствовало в первом издании — на темы литературной теории и истории и еще более ученым послесловием о значении редкого латинского слова rhombus. Все эти тексты нужны, разумеется, не просто чтобы продемонстрировать авторскую эрудицию, а чтобы обставить спереди и сзади повествование о ночных кошмарах прочными барьерами филологического рационализма. Подобные барьеры могут воздвигаться и в пределах самого повествования: с изложения историко-филологической учености начинается «Зеленое чудовище» Жерара де Нерваля; повести Готье «Онуфриус» и Клода Виньона «Десять тысяч франков от дьявола» заканчиваются заключениями психиатров, а «Влюбленный дьявол» Казота — демонологическими рассуждениями (не считая литературно-критического послесловия); примерно таков же конец и «Прощенного Мельмота» Бальзака, с той лишь разницей, что здесь цитаты из немецкой мистической книги функционируют пародийно, наравне с каламбурами вольнодумных французских слушателей: их задача — «заболтать» магический сюжет новеллы, упаковать его в нарядную оболочку литературной игры, заставить позабыть его пугающее первоначальное содержание.
Для создания дистанции между «нашим», читательским миром и угрожающим миром готического инопространства используются и другие, не только «рамочные» приемы. Обычно основным средством дистанцирования служит повествовательная точка зрения — события излагаются от лица трезвого, недоверчивого рассказчика, не забывающего проверять каждый факт и учитывающего все то, что способно помутить сознание свидетелей (болезнь, безумие, опьянение…) и стать причиной иллюзии. Еще более действенный способ избежать прямого столкновения с реальностью инопространства — истолковывать ее как отражение моральной, психологической реальности персонажей. Скажем, бальзаковского Мельмота — дарителя бессмертия и неограниченной власти — легко трактовать как своего рода символическое сгущение желаний, обуревающих главного героя новеллы Кастанье. А уж в прозе Клода Виньона сверхъестественные явления и вовсе меркнут в свете настойчиво проводимого морально-дидактического задания: преступник сам наказывает себя за свое злодеяние, муки совести заставляют его видеть призраков. Не то чтобы подобные мотивировки позволяли всякий раз объяснить причину того или иного пугающего происшествия — но они помогают приписать ему задним числом некоторый внятный смысл, а культура интересуется скорее смыслом, чем причинами вещей.
И все же, как бы ни старалась культура подчинить себе данность инопространства, оно всегда сохраняется где-то на горизонте повествования, всегда остается более или менее прозрачный намек на возможность другого, нерационального толкования происшествий. Такую возможность разных истолкований, колебание между разными версиями событий — «естественной» и «сверхъестественной» — во французской теории литературы принято считать специфическим эффектом фантастики. [6] Впрочем, в некоторых «неклассических» образцах жанра колебание может носить и несколько иной характер — не метафизический, а моральный. Так, герой казотовского «Влюбленного дьявола» ни на минуту не сомневается в том, что его странная подруга — существо сверхъестественное; неясность есть лишь по другому вопросу — является ли она «сильфидой», как сама себя аттестует, или же злым адским духом? Любопытно, что сомнение это так и осталось не совсем разрешенным: правда, во время своей «брачной ночи» с Альваром Бьондетта явилась ему в виде ужасного чудовища и прямо сказала, что зовут ее Вельзевул, однако ровно никаких вредоносных последствий для героя вся эта история не имела, его даже не понадобилось «спасать» от бесовских козней — значит, козней и не было, значит, адский дух был вовсе не злым, а действительно влюбленным? [7] Таким образом, главным признаком готической прозы оказывается наличие не «сверхъестественной», а культурно неприемлемой версии событий; в случае Казота таким принципиально неприемлемым для культуры является существование не дьявола как такового, а доброго, любящего дьявола — тема, впоследствии получившая довольно широкое распространение в литературе романтизма.
Неприемлемая версия, точка зрения может оформляться в тексте разными способами. Чаще всего она вводится через посредство какого-нибудь персонажа — «суеверного туземца» («Локис», «Инес де Лас Сьеррас», «Jettatura») или же «духовидца» («Смарра», «Любовь мертвой красавицы», «Онуфриус», «Вера»). Конечно, его слова и переживания неизменно подвергаются критике с точки зрения господствующей культуры, но они и сами остаются в рожках культуры, выражают ее неортодоксальную, отверженную часть. В такой сложной функции выступает, например, в повести Нодье «Мадемуазель де Марсан» по видимости наивная зазывная речь маленькой итальянской торговки Онорины, убеждающей рассказчика купить у нее «лазанки», — фактически это своего рода образец народной поэзии, проявление любимого романтиками «местного колорита». Через него, во-первых, вводится в текст особая инстанция «простонародного сознания», в недрах которого слагаются не только трогательные рассказы о католических праздниках, но и страшные предания о высящейся рядом с городом башне, а во-вторых, имя Онорины перекликается с именем ее святой покровительницы Гонорины, уморенной голодом в темнице («будь у госпожи святой Гонорины сверток с лазанками, она бы, конечно, не умерла»), — и тем самым подготавливается сцена в башне, где именно купленная у девочки снедь поможет рассказчику спасти жизнь умирающей от голода Дианы де Марсан; в результате эпизод голодного заточения — страшный, но, строго говоря, не содержащий в себе ничего сверхъестественного, — обретает новую, дополнительную мотивировку, в которой сплетаются христианские легенды и простонародные поверья; именно такая мифологическая атмосфера и придает сентиментальной повести Нодье готическую окраску.
6
См.: Todorov Tzvetan. Introduction a la litterature fantastique. Paris, Seuil, 1970; Bessiere Irene. Le recit fantastique. Paris, Larousse, 1974.
7
В другой системе координат эту странную развязку можно понимать как незавершенность «Влюбленного дьявола». На этот счет сам писатель специально объясняется в послесловии к повести.