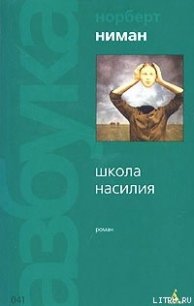INFERNALIANA. Французская готическая проза XVIII–XIX веков - Казот Жак (чтение книг .TXT) 📗
Меж тем вслушайтесь. Звучат песни юных фессалийских дев, музыка взмывает ввысь, взмывает все выше, гармоническим облаком овевает витражи одиноких руин, милых сердцу поэта. Вслушайтесь! Девы обнимают лиры из слоновой кости, вопрошают глухие струны, а те, раз отозвавшись, трепещут, замолкают, но, и замерев, продолжают полнить душу неизъяснимой, бесконечной гармонией, внятной всем чувствам, — мелодией чистой, словно нежный помысел счастливой души, словно первый поцелуй влюбленного, еще не сознавшего своей любви, словно взгляд матери, качающей колыбель младенца, который привиделся ей мертвым, а теперь, покойный и прекрасный, спит подле нее. Так истаивает в воздухе, над безмолвным озером или у подножия бездушной скалы, последний всхлип систра в руках молодой женщины, плачущей оттого, что возлюбленный ее не пришел на свидание. Девы глядят друг на друга, клонятся одна к другой, спрашивают совета, переплетают прелестные руки, перемешивают развевающиеся кудри, танцуют на зависть нимфам и из-под ног их взмывает огненная пыль, которая бледнеет, гаснет и опускается на землю серебристым пеплом; гармония их песен струится, словно потоки меда, словно чудный ручей, чей нежный шепот красит брега, любимые солнцем, изобильные внезапными изгибами, тенистыми и свежими бухтами, бабочками и цветами. Они поют…
Лишь одна, быть может… Высокая, неподвижная, задумчивая… Боги! Отчего так мрачно и печально стоит она позади подруг и чего надобно ей от меня? О, оставь мои мысли, несовершенный призрак моей возлюбленной, которой уж нет на свете, не смущай тихое очарование моих вечеров воплощенной укоризной! Оставь меня, ведь я плакал о тебе семь лет, позволь мне забыть о слезах, что по сей день обжигают мои щеки, когда я предаюсь невинным удовольствиям, упиваясь танцем сильфид и музыкой волшебниц. Ты ведь видишь, как они приближаются, как стайки их сливаются, образуя изменчивые, непостоянные гирлянды, которые теснятся, отступают, приближаются, удаляются, вздымаются, словно волна в час прибоя, чтобы отхлынуть, как она, переливаясь всеми цветами, какими сверкает перевязь, опоясывающая небо и море после грозы, в то мгновение, когда конец этой готовой вот-вот исчезнуть огромной арки упирается в нос корабля.
Но что за дело до происшествий на море и до смешных тревог странника мне, кого божественная милость, некогда, возможно, бывшая одним из счастливейших даров человека, избавляет по первому же моему желанию (сладостное преимущество сна!) от любых опасностей? Вот я закрыл глаза, вот стихли мелодии, восхищавшие мой дух, — пусть же творец ночных чар выроет предо мною глубокую, неведомую бездну, поглощающую все земные формы, звуки и краски, пусть перебросит он через бурлящий, алчущий добычи поток узкий, скользкий, сколоченный на скорую руку мостик, не сулящий спасения, пусть зашвырнет он меня на край шаткой, тряской доски, нависшей над пропастью, в которую страшно даже заглянуть… — уверенный в покорстве земли, привыкший повелевать, я безмятежно топну ногою. И вот земля уступает, земля подается, я с радостью покидаю людей и, легко взмыв ввысь, вижу, как мелькают подо мною синие реки, мрачные морские пучины, разноцветные ковры лесов, где весенняя зелень чередуется то с осенним золотом и пурпуром, то с зимней тусклостью черно-лиловых листьев, съежившихся от мороза. Если шалая птица шелестит подле меня трепетными крылами, я устремляюсь еще выше, я воспаряю, я рвусь к новым мирам. Река стала ниткой, исчезающей среди мрачной зелени, горы — еле видной точкой, в которой вершины сливаются с основаниями, океан — смутным пятном на поверхности некоей громады, затерянной во вселенной и вращающейся быстрее, чем вертятся вокруг своей оси по прихоти афинских ребятишек шестигранные кости на широких плитах под сводами галерей, окружающих квартал Керамик.
Случалось ли вам проходить вдоль стен этого квартала в те дни, когда первые лучи весеннего солнца дарят миру возрождающее тепло? Случалось ли вам видеть там длинную череду истощенных, неподвижных людей, чьи щеки впалы, а взгляд тускл и туп: одни сидят на корточках, съежившись по-звериному, другие стоят, прислонясь к ограде, сгибаясь под тяжестью собственного изможденного тела? Случалось ли вам видеть, как, полуоткрыв рот, чтобы еще раз вдохнуть живительный воздух, с угрюмым сладострастием вкушают они нежное весеннее тепло? То же зрелище поразило бы ваш взор и у стен Лариссы, ибо несчастные есть повсюду; но здесь несчастье несет на себе отпечаток рока более позорного, чем нищета, более мучительного, чем голод, более тягостного, чем отчаяние. Страдальцы эти медленно бредут один за другим, поминутно останавливаясь, подобно тем фантастическим фигурам, какие рука умелого мастера помещает на циферблате курантов. {57} Целых двенадцать часов требуется безмолвному кортежу, чтобы обойти круглую площадь, хотя размеры ее так невелики, что возлюбленный, находящийся на одной ее оконечности, может сосчитать число пальцев, которые дама его сердца, находящаяся на оконечности противоположной, загнула, дабы он узнал, сколько еще часов отделяют их обоих от желанного часа свидания. Эти живые призраки почти вовсе не похожи на людей. Кожа их обтягивает кости, словно белый пергамент. Во взоре не видно ни малейшего проблеска души. Бледные губы дрожат от волнения или ужаса, а порой, — что еще более отвратительно, — кривятся в улыбке столь же презрительной и жестокой, что и последние мысли закоренелого преступника, идущего на казнь. Большинство из них, подверженные слабым, но постоянным конвульсиям, дрожат мелкой дрожью, точно железный язычок того звучного инструмента, в какой любят дуть дети. Более же всех достойны сожаления те, кого враждебная судьба осудила до последних дней отпугивать прохожих отвратительным уродством подагрических конечностей и негнущихся членов. А между тем часы бодрствования для них суть часы избавления от мук, коих они страшатся более всего на свете. Стоит солнцу, охраняющему несчастных страдальцев от мстительных фессалийских колдуний, скрыться за горизонтом, как они оказываются добычей страшных властительниц тьмы, обрекающих беззащитные жертвы на пытки, для коих в языке человеческом нет подходящих слов. Вот отчего не сводят они глаз со светила, чересчур поспешно обегающего небосклон: они питают несбыточную надежду, что однажды солнце позабудет об ожидающем его лазурном ложе и останется сиять среди золотых закатных облаков. Лишь только ночь является их разуверить, укрыв весь мир своими траурными крыльями, чью черноту не нарушает ни единое светлое пятно и не рассекают даже те мертвенно-бледные лучи, что гасли еще недавно над вершинами деревьев; лишь только меркнет последний отблеск, который брезжил еще мгновением раньше на гладкой металлической крыше высокого здания, подобно раскаленному угольку, что теплится в потухшем костре, но очень скоро остывает и исчезает под пеплом покинутого очага, — тотчас же грозный ропот раздается в толпе несчастных калек; лязгая зубами от отчаяния и ярости, они бегут, они сторонятся друг друга, ибо повсюду видятся им колдуньи и призраки. Настала ночь!.. Сейчас врата ада раскроются вновь!
У одного из этих страдальцев суставы хрустели особенно громко, словно старые пружины, а из груди вырывался хрип более сиплый и глухой, чем издает с трудом вращающийся ржавый винт. Не только это, однако, отличало его от жалких товарищей по несчастью; лохмотья, прикрывающие его тело, несомненно были некогда богато расшитым платьем, а в исполненном печальной прелести взгляде, освещавшем порой его изможденное, удрученное лицо, сквозила неизъяснимая смесь забитости и гордости, придававшая ему сходство с пантерой, чью пасть разрывает кляп безжалостного охотника; женщины, мимо которых он проходил, провожали его вздохом сострадания. Белокурые волосы небрежно падали на его лилейные плечи, белевшие на фоне пурпурной туники. Шею его, однако, обагряла кровь, ее пересекал треугольный шрам от копья — след раны, которая отняла у меня Полемона во время осады Коринфа, {58} когда сей верный друг бросился ко мне и своим телом укрыл меня от дикой ярости солдата, который, даже уверившись в победе, желал увеличить еще хоть на единицу число жертв. То был многажды оплаканный мною Полемон, постоянно посещающий меня во сне, дабы напомнить своим хладным поцелуем, что нам суждено встретиться в бессмертной вечности смерти. То был Полемон, еще живой, но обреченный вести существование столь ужасное, что адские духи и призраки радуются одному лишь перечислению его мук; Полемон — жертва фессалийских колдуний и тех демонов, что составляют их свиту на загадочных ночных торжествах. Он остановился, окинул меня удивленным взором, пытаясь припомнить, откуда ему знакомы мои черты, приблизился ко мне шагом размеренным и тревожным, коснулся моих рук рукою дрожащей и робкой, и, внезапно заключив меня в объятия, вселившие в меня невольный ужас, вперив в мои глаза свой тусклый, туманный взор, подобный последнему лучу света, гаснущему в дверях темницы, воскликнул с ужасным хохотом: «Луций! Луций!» — «Полемон, милый Полемон, друг и спаситель Луция!..» — «В ином мире, — сказал он, понизив голос, — припоминаю… то было в ином мире, в жизни, не подвластной сну и его призракам…» — «О каких призраках ты говоришь?..» — «Смотри!.. — отвечал он, указывая во тьму. — Вот они».