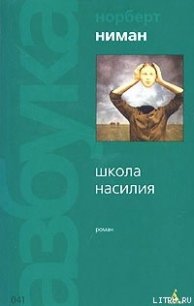INFERNALIANA. Французская готическая проза XVIII–XIX веков - Казот Жак (чтение книг .TXT) 📗
Садясь в двух шагах от замка Рюэйль в дилижанс на Э., я никак уж не рассчитывал найти в нем де Брассара. Мы давным-давно не виделись, и я обрадовался перспективе провести часок-другой с тем, кто еще жил в нашем времени и уже так разительно отличался от людей нашего времени. Виконт де Брассар, который и в доспехах эпохи Франциска I двигался бы так же легко, как в голубом мундире офицера королевской гвардии, ни повадкой, ни пропорциями не походил на самых хваленых нынешних молодых людей. В закатном свете этого солнца долгой, ослепительной и грандиозной элегантности показались бы худосочными и бледными все крошечные полумесяцы моды, что восходят теперь на горизонте! Отличаясь красотой в стиле императора Николая, {423} которого напоминал торсом, хотя уступал ему в правильности черт и обладал не столь греческим профилем, он носил короткую бороду, оставшуюся, как и волосы на голове, черной благодаря какой-то непостижимой тайне ухода за собой или косметики, и борода эта почти доверху закрывала его щеки с кожей здорового мужественного оттенка. Под безупречным благородным лбом, выпуклым, свободным от морщин и белым, словно женское плечо, лбом, широта и горделивость которого еще более подчеркивалась гренадерской шапкой, хотя обычно от нее, как и от каски, шевелюра, особенно на темени, несколько редеет, виконт де Брассар почти таил — настолько глубоко они сидели под надбровными дугами — сверкающие темно-синие глаза, яркие наперекор своей глубине и пронзительные, как два сапфировых острия. Эти глаза не давали себе труда всматриваться — они просто в вас проникали.
Мы пожали друг другу руки, и разговор завязался. Капитан де Брассар изъяснялся звонким голосом и неторопливо: чувствовалось, что отданная им команда была бы услышана во всех концах любого Марсова поля. {424} С детства, как я уже сказал, воспитывавшийся в Англии, он, вероятно, думал по-английски, но эта необременительная, впрочем, медлительность придавала особый колорит его речам и шуткам, а пошутить — и даже чуточку вольно — капитан очень любил: он был скор на язык.
— Капитан де Брассар всегда заходит слишком далеко, — вздыхала графиня де Ф., та хорошенькая вдова, что после смерти мужа признавала только три цвета: черный, фиолетовый и белый. — Нужно, чтобы вокруг него всегда было хорошее общество, иначе нередко может показаться, что сам он принадлежит к дурному. Но зато, когда он в подлинно хорошем обществе, ему даже в предместье Сен-Жермен {425} все сойдет с рук.
Одно из преимуществ беседы в экипаже состоит в том, что, когда говорить больше не о чем, ее можно прервать, никого при этом не обидев. В гостиной такой свободы не бывает. Учтивость обязывает, несмотря ни на что, поддерживать разговор, и карой за это невинное лицемерие нередко является пустота и скука подобных разговоров, в которых дураки, даже молчаливые по натуре (бывают и такие!), лезут из кожи и насилуют себя, лишь бы что-то сказать и выглядеть любезными. В дилижансах каждый одновременно и у себя, и в гостях, а значит, может, не нарушая приличий, погружаться в приятное другим молчание и уходить от беседы в мечты. К несчастью, житейские обстоятельства ужасно однообразны, и в былые времена (ибо это уже былые времена!) людям случалось по двадцать раз садиться в дилижансы — как они теперь по двадцать раз садятся в вагон — и не встретить ни одного интересного и живого собеседника.
Виконт де Брассар обменялся со мной кое-какими соображениями о дорожных происшествиях и особенностях пейзажа, а также воспоминаниями из жизни света, где мы когда-то сталкивались, а затем угасающий день погрузил нас в безмолвие сумерек. Ночь, которая осенью наступает с такой быстротой, как если бы отвесно падала с неба, обдала нас прохладой, и мы закутались в плащи, стараясь поудобней пристроить голову в жестком углу, этом заменителе подушки для путешественника. Не знаю, задремал ли мой спутник в своем, но я в моем не смыкал глаз. Мне так наскучила дорога, по которой я мчался теперь и столько раз прежде, что, укачиваемый движением, я почти не замечал внешних предметов, словно бежавших навстречу нам из мглы. Мы проезжали через небольшие городки, разбросанные вдоль бесконечного шоссе, которое почтальоны по старой памяти называли «чертовой косицей», хотя свою собственную давным-давно остригли. Ночь стала черной, как потухший очаг, и в этой тьме безвестные городки, через которые мы проезжали, обретали странный облик, создававший иллюзию, будто мы на краю света. Все эти ощущения, которые я воспроизвожу здесь в память последних впечатлений от безвозвратно ушедшего порядка вещей, исчезли навсегда и ни у кого больше не возникнут. Сегодня железные дороги с их вокзалами у въезда в город не позволяют больше путешественнику быстрым взором охватить убегающую панораму улиц из окна летящего галопом дилижанса, которому предстоит сменить лошадей и двинуться дальше. В большинстве городов, что мы пересекали, редко встречалась такая запоздалая роскошь, как фонари, и на улицах, разумеется, было еще темнее, чем на пройденных нами дорогах. Там, по крайней мере, над головой во всю свою ширь нависало небо и необъятность просторов рождала какой-то смутный свет, тогда как здесь все: стоящие почти впритык и словно целующиеся дома, тень, отбрасываемая ими на узкие улицы, обрывки неба и редкие звезды, видневшиеся между двумя рядами крыш, — все усугубляло таинственность этих уснувших городков, и единственным, кого можно было встретить у ворот постоялого двора, оказывался конюх с фонарем, который выводил сменных лошадей и застегивал пряжки сбруи, что-то насвистывая и поругивая не в меру упрямых или нетерпеливых животных. Кроме этого да извечно одинакового вопроса кого-нибудь из. пассажиров, спросонья опускавшего окошко и кричавшего в темноту, особенно звонкую в час всеобщего молчания: «Где мы, почтальон?» — не слышалось ни единого звука и не виднелось ни одной живой души ни вокруг, ни в набитом сонными пассажирами дилижансе, ни в сонном городе, где разве что какой-нибудь мечтатель вроде меня силился сквозь стекло своего купе различить фасады выступающих из мрака зданий или устремлялся взглядом и мыслью к одному из еще не погасших окон маленького городка с простыми и упорядоченными нравами, где ночь существует для того, чтобы спать. В бодрствовании человека, пусть даже просто часового, не смежающего век, когда все остальные существа погружены в сон, это оцепенение усталого животного всегда есть нечто внушающее уважение. Но когда ты не знаешь, что побуждает бодрствовать за окном, задернутым занавесями, где свет свидетельствует о жизни и мысли, — это усугубляет поэзию реальности поэзией мечты. Я, по крайней мере, проезжая ночью мимо освещенного окна в уснувшем городе, всякий раз устремлял к этому световому квадрату целый рой мыслей, рисуя себе за шторами сложное сплетение личных связей и драм. Даже теперь, по прошествии стольких лет, я храню в памяти эти навеки запечатлевшиеся в ней печальные озаренные окна и часто, воскрешая их образы в часы раздумья, невольно спрашиваю себя: «Что же таилось за этими занавесями?»
Так вот, одним из таких наиболее врезавшихся мне в память окон (сейчас вы поймете — почему) оказалось окно на улице города Т., через который мы проезжали той ночью. Оно светилось через три дома — как видите, мои воспоминания достаточно отчетливы — от гостиницы, где мы сменили лошадей, но рассматривать его мне довелось дольше, чем обычно. Одно колесо у нашего дилижанса вышло из строя, и пришлось послать за тележником, который давно уже почивал. А поднять с постели тележника в уснувшем провинциальном городе, чтобы заставить его явиться и подтянуть гайку дилижанса, у которого на этой линии нет конкурента, — дело отнюдь не пустячное и минутное. Ведь если тележник спал в своей постели так же крепко, как седоки в нашем дилижансе, разбудить его было очень не просто. За перегородкой купе я слышал храп моих попутчиков в общем отделении, и ни один из пассажиров империала, которые, как известно, маниакально стремятся слезать вниз при малейшей остановке, затем, вероятно (поскольку тщеславие гнездится во Франции повсюду — даже на империале), чтобы показать, с какой легкостью они вскарабкиваются обратно, — ни один пассажир не спустился с империала на землю. Правда, гостиница, перед которой мы стояли, была закрыта. Ужин там не подавали. Кстати, мы поужинали на предыдущей остановке. Гостиница клевала носом, как и мы. В ней не заметно было никаких признаков жизни. Ни один звук не нарушал глубокой тишины, если не считать монотонного и усталого шарканья метлы (в мужских или женских руках — неизвестно: было слишком темно, чтобы разбираться в этом), подметавшей просторный двор немой гостиницы, ворота которой обычно оставались распахнуты. В этом медленном шарканье метлы по камням тоже было нечто сонное или по меньшей мере явственно чувствовалось желание уснуть. Фасад гостиницы был темен, как и прочие дома на улице, где свет виднелся лишь в одном окне, том самом, что я унес в своей памяти и доныне храню в ней. Дом, о котором нельзя даже сказать, что там горел свет — настолько слабо лучи его процеживались через двойной пунцовый занавес, пока таинственным образом пронизывали толщу последнего, представлял собой обширное здание всего в два этажа, но зато расположенное на высоком месте.