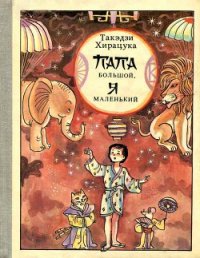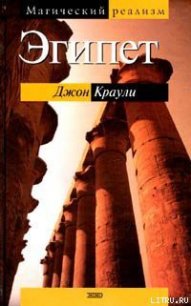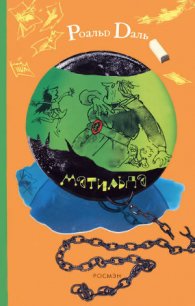Маленький, большой - Краули (Кроули) Джон (читать хорошую книгу txt) 📗
— О чем ты говоришь?
— Не будешь ли ты так добра чуть-чуть послушать? — Оберон вспыхнул. — Все очень просто. В Эджвуде, где я рос, было полно воображаемых комнат.
— Конечно.
Сильвия стояла подбоченившись, с деревянной ложкой в руке; на голове, как полагается домашней хозяйке, был повязан яркий платок, в ушах, среди непокорных черных прядок, колыхались серьги.
— Идея состоит в том, — объяснил Оберон, — что когда я говорю: детка, я пошел к себе в кабинет, а потом сажусь за эту парту, то я как будто удаляюсь в отдельную комнату. И закрываю дверь. И остаюсь там один. Ты меня не видишь и не слышишь, потому что дверь закрыта. Дошло?
— Ладно, хорошо. Но почему?..
— Потому что воображаемая дверь закрыта и…
— Нет, я говорю о том, почему тебе пришла мысль об этом воображаемом кабинете? Почему бы не сидеть просто в спальне?
— Мне нужно быть одному. Слушай, давай заключим соглашение: ты не видишь ничего, что делается в воображаемом кабинете; не упоминаешь об этом, не рассуждаешь, не…
— Ладненько. Что ты собираешься делать? — За улыбкой последовал грубый жест, изображенный при помощи ложки. — Хей.
Да, втайне ублажать себя, но иначе: в основном грезить наяву, хотя сам бы он так не выразился. Обхаживать в долгих мечтательных прогулках Психею, свою душу; складывать два и два и, быть может, записывать сумму (в подставке на парте он собирался держать наточенные карандаши и резинку). Но, предвидел Оберон, чаще всего он будет просто сидеть, накручивать на палец прядь волос, причмокивать, чесаться, гоняться за летучими пятнышками под закрытыми веками, снова и снова бормотать одни и те же полстрочки чужих стихов и, в общем, вести себя как самый тихий из психов. Можно было также читать газеты.
— Думать, читать и писать, ха! — выразительно произнесла Сильвия.
— Да. Видишь ли, мне необходимо когда-никогда побыть одному.
Сильвия погладила Оберона по щеке:
— Чтобы думать, читать и писать. Да, малыш. Хорошо. — Она откинулась назад, с любопытством его разглядывая.
— Ну, я отправляюсь к себе в кабинет, — проговорил Оберон, чувствуя себя дурак дураком.
— Хорошо. До свиданья.
— Я закрываю дверь.
Сильвия махнула ложкой. Она собиралась еще что-то добавить, но он возвел глаза к потолку, и она вернулась в кухню.
В кабинете Оберон опер щеку о ладонь и стал рассматривать шероховатую поверхность парты. Кто-то выцарапал там непристойность, а кто-то другой стыдливо замаскировал ее словом ЖУЙ, выписанным печатными буквами. Возможно, оба использовали острие циркуля. Циркуль и транспортир. Когда он впервые пошел в маленькую школу своего отца, дедушка дат ему свой старый пенал, кожаный, с защелкой и со странным мексиканским резным рисунком, изображавшим нагую женщину. Можно было провести пальцем по стилизованной груди и ощутить кожаную пуговку соска. Там лежали карандаши с безвкусно-розовыми колпачками, под которыми, однако, не обнаружилось резинок; резинка имелась другая — серая ромбовидная, из двух частей, одна для карандаша, а другая, твердая, для чернил, которая протирала на бумаге дыры. Лежали ручки, черные и с пробкой на конце, как у сигарет тети Клауд, и стальная коробочка с перьями. А также циркуль и транспортир. Делить угол пополам. Но никогда не на три части. Он тронул пальцами воображаемый циркуль и поводил им туда-сюда по парте. Когда сточился маленький желтый карандашик, циркуль скособочился. Оберон мог бы написать книгу о долгих школьных днях, скажем, о последнем дне мая: штокроза во дворе, виноградная лоза проникает в открытое окно, запах уборной на улице. Пенал. Матушка Западный Ветер и Малыши Бризы. Вечера, тянувшиеся как резина. Историю можно назвать «Резинка». «Резинка», — сказал он вслух и бросил взгляд на Сильвию: не подслушала ли она. Поймал ее на том, что она стрельнула глазами в его сторону, а потом, как ни в чем не бывало, вновь сосредоточилась на домашних делах.
Резинка, резинка… Оберон забарабанил пальцами по дубовой доске. Чем же там занята Сильвия? Готовит кофе? Она вскипятила большой чайник и теперь небрежно вытряхнула туда несколько щедрых горстей кофе прямо из мешочка, а потом дополнила его гущей, оставшейся с утра. Сочный запах кипящего кофе наполнил комнату.
— Знаешь, что тебе нужно сделать? — спросила она, размешивая кофе в кружке. — Попытайся получить работу в «Мире Где-то Еще», писать сценарии. Сериал портится на глазах.
— Я… — начал было Оберон, но затем демонстративно отвернулся.
— Молчу, молчу, — спохватилась Сильвия, подавляя смешок.
Джордж говорил, что все телепередачи пишутся на другом побережье. Но откуда бы он мог это узнать? Ознакомившись в подробных пересказах Сильвии с «Миром Где-то Еще», Оберон понял: настоящая трудность заключается в том, что ему никак не выдумать все эти бесчисленные и, на его взгляд, нелепые страсти, которыми заполнены программы. Притом, судя по всему, ужасные горести, муки, несчастные случаи и редкостные удачи, о которых там повествовалось, действительно случались в жизни — так что же он знает о жизни и о людях? Возможно, большинство людей таковы, как показывает телевидение: своенравны, одержимы жаждой власти, крови, наслаждений, денег, подвержены страстям. Как бы то ни было, знание людей и жизни не было его сильной стороной как писателя. Его сильными сторонами были…
— Тук-тук. — Перед ним стояла Сильвия.
— Да?
— Можно войти?
— Да.
— Не знаешь ли, куда делся мой белый костюм?
— А в уборной смотрела?
Сильвия открыла дверцу туалета. К дверце этого крохотного помещения они прикрутили старую вешалку, где держали большую часть своего гардероба.
— Посмотри под моим пальто, — посоветовал Оберон.
Там он и обнаружился, белый хлопчатобумажный костюм из жакета и юбки — собственно, старая униформа сиделки, о чем свидетельствовала нашивка на плече. Сильвия остроумно его перекроила, превратив в нечто одновременно модное и оригинальное. Ее вкус был безупречен, а портняжное мастерство за ним не всегда поспевало. Оберон в очередной раз пожалел, что не может дать Сильвии несколько тысяч на наряды: было бы сплошным удовольствием на это посмотреть.
Сильвия критически изучила костюм.
— У тебя кофе выкипит, — предупредил Оберон.
— А? — Крошечными ножницами в форме птичьего клюва Сильвия стала отпарывать с плеча нашивку. — Ох, ну да! — Она поспешила выключить огонь. Потом вернулась к костюму. А Оберон вернулся в кабинет.
Его сильные стороны как писателя…
— Хотела бы я уметь писать, — проговорила Сильвия.
— А кто сказал, что ты не умеешь? Пари держу, у тебя получится. Нет, в самом деле, — добавил он, когда она скептически фыркнула, — готов поручиться. — С уверенностью, данною любовью, он знал: Сильвия умеет почти все, а если чего-то не умеет, то это и не следует уметь. — А о чем бы ты писала?
— Даю голову на отсечение, я бы придумала сюжеты получше, чем в «Мире Где-то Еще». — Она поднесла дымящийся чайник к ванне (как во всех старомодных квартирах, последняя нахально красовалась на самой середине кухни) и стала процеживать кофе через тряпку в стоявший там сосуд еще большего размера. — Им, знаешь ли, не хватает трогательности. Они не трогают душу. — Сильвия начала раздеваться.
— Ты не обидишься, — заговорил Оберон, оставив бесплодные попытки отгородиться от Сильвии воображаемой стеной и дверью, — если я спрошу, какого черта ты делаешь?
— Меняю цвет, — отозвалась она спокойно. На ней уже не было рубашки, и шары грудей при каждом движении слегка раскачивались, как маятник. Она взяла в руки обе части белого костюма, в последний раз их оглядела и бросила в котелок с кофе. Оберон понял и восторженно рассмеялся.
— Оттенок беж. — Сильвия произнесла это слово как «б-э-ж». Из сушилки у раковины она достала небольшой хлопчатобумажный фильтр, похожий на носок (el colador [35], мужского рода; им она пользовалась, когда готовила крепкий испанский кофе), и продемонстрировала его Оберону. Фильтр приобрел тот сочный рыжевато-коричневый цвет, которым Оберон часто восхищался. Сильвия начала помешивать в котелке ложкой с длинной ручкой. — На два тона светлее меня, — пояснила она, — вот чего я добиваюсь: cafe-con-leche. [36]
35
Ситечко (исп.).
36
Кофе с молоком (исп.).