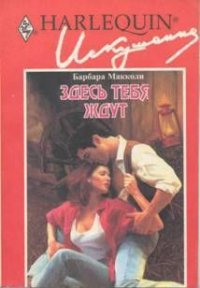Огонь сильнее мрака (СИ) - Герасименко Анатолий (читаем книги онлайн бесплатно полностью .txt) 📗
Вот же проклятье, я сейчас опять думаю точь-в-точь как Джил. Ну не беда. Теперь уже недолго осталось. Скоро и это кончится, и вообще всё. Может, оно и к лучшему? А что, интересная мысль. Если вдуматься, как же мне это всё надоело – беготня, стрельба, безденежье… Из Гильдии выперли, жена давно бросила… Ни до кого дотронуться нельзя, башка болит все время… Скоро всего этого не станет. Так что определенные плюсы в моем положении есть.Интересно, Джил будет скучать?..
О боги, вдруг подумал он, да ведь я вот-вот умру!
Мысль эта была огромной и страшной, но Джон справился со страхом, как привык справляться всю жизнь – когда шел на нож, лез под пули и нырял в драку. Он собрался, задышал глубоко и мерно и, глядя прямо перед собой, сосредоточился на том, как воздух входит в легкие и покидает их – вдох, выдох, вдох, выдох… Через полсотни вдохов страх ушел, но взамен стало невыносимо тоскливо. Тоска была, словно боль в животе – от неё не получалось отвлечься, её ничем было не заглушить, хотелось только свернуться на песке калачиком и тихо скулить в ожидании конца. Такого Джон себе позволить не мог.
– Счастливец глух к чужому несчастью, – сказал он Хонне, просто, чтобы услышать звук своего голоса. – Оттого у вас все такими сволочами и становились.
Хонна молчал очень долго. Джон, чтобы отвлечься, принялся разглядывать рассветное небо Разрыва. Полоса над холмами стала вдвое шире, в воздухе веял первый утренний бриз, пока ещё слабый, как дыхание котенка, но уже теплый, несущий обещание жары. Между тем Хонна все молчал, и Репейник даже решил, что он умер, но потом из полуоткрытого рта Фернакля донесся странный тихий звук. Звук был прерывистый и вместе с тем глубокий, словно шел из самого нутра, он то затихал, то становился слышен вновь. Джон сначала не понял, что это, а потом сообразил. Великий Моллюск смеялся.
– Уж простите… господин Джонован, – отсмеявшись, сказал Хонна. – Я… за пять тысяч лет… много слыхал такого.
– Вы мне не верите, – утвердительно сказал Джон. – Ваш эликсир загубил два народа, а вы всё равно не верите.
Ветер обрёл силу, взъерошил волосы на голове сыщика. Рассветная полоса растеклась на полнеба. Стало немного теплей.
– Не верю, – согласился Хонна. – Не валлитинар… их загубил. Была подлость. Было… себялюбие. И жестокость. Мне надлежало… распознать их. В ростке. И пресечь. Но я… оказался… дурным вождём. Моя вина.
Джон переменил руку, державшую ремень. Хонна, видимо, смирился с болью и выдержал процедуру, не издав ни звука. Бриз крепчал, налетал порывами. Небо выцветало. Далеко над дюнами, справа от Джона, оно стало болезненно-розовым.
– Не думаю, – сказал Репейник. – Никакой вины здесь нет. Ничего вы не могли изменить.
Дунул ветер, сыпанул песком в лицо. Джон потряс головой и сплюнул.
– Хонна? – позвал он.
Ответом было молчание.
– Хонна, – сказал Джон снова, хотя всё и так было ясно.
Воздух над горизонтом дрожал, на вершинах дюн танцевали маленькие пылевые вихри. Кусты песчаного винограда покачивались под порывами бриза. Хонна лежал, запрокинув голову, и теперь было видно, что он весь измазан кровью. Свежая, она хранила молочный цвет – Джон впервые видел своими глазами легендарную белую кровь богов – но везде, где успела свернуться и засохнуть, стала бурой, как старая ржавчина. Бурые пятна сплошь покрывали грудь и плечи Великого Моллюска, песок под ним был тёмным, спекшимся. Джон протянул руку и потрогал шею Хонны, не зная, что должен ощутить – биение пульса, тепло, возможно, последнюю дрожь или отголосок мыслей, как это было с Иматегой.
(«Здесь никого»)
В этот момент Джона от макушки до ступней будто пронизала молния. Ощущение было сродни взрыву внутри тела – он словно бы распался на крошечные части, на мириады осколков. Со всех сторон одновременно раздался многоголосый звук, похожий даже не на слова, а на эхо слов, слов на чужом языке, который был древней песка под ногами. Время, как огромное сердце, дрогнуло и на миг остановилось. Перед глазами засверкали удивительные фигуры, хрупкие разноцветные плоскости, соединенные в неимоверно сложную систему. И всё вместе – осколки, звуки, фигуры – стало цельным, единым и неразделимым. Стало прекрасным.
А затем пропало.
Джон встал, чувствуя каждый натруженный мускул в избитом теле. Рёбра ныли, в глотке пересохло, но, несмотря на это, он чувствовал небывалый подъём сил, будто в тело влили новую, свежую кровь. И в то же время на душу наваливалось одиночество, неизведанное, щемящее, беспредельное. Вот как бывает, когда умирает бог, подумал Джон. Словно ты освободился, и в то же время – осиротел...
Ветер обдал щёку горячим сухим дыханием. Джон обернулся и увидел, что над горизонтом в дрожащем расплывшемся мареве показалась верхушка солнечного диска. Светило было огромным, в несколько раз больше земного привычного солнца, и Джон прикрыл глаза ладонью, не в силах смотреть на его раскаленную алую кромку. Ветер налетал порывами, сыпал пылью, дышал мёртвым песчаным запахом. С каждой секундой становилось все жарче. Репейник в последний раз оглянулся на тело Хонны и сделал несколько шагов по песку. Вокруг, насколько хватало глаз, тянулись горбы дюн, поблескивавшие слюдяными искрами.
«Смерть, – подумал Джон. – Ну и где же она?»
Он стянул куртку, обмотал вокруг головы на манер тюрбана, как у приканских кочевников, но никакого толку из этого не вышло, потому что голове под импровизированным тюрбаном стало жарче, чем было без него. Вероятно, кочевники знали какой-то секрет – а может, и не было никакого секрета, просто сочинители инструкций по выживанию придумали, что в тюрбане по пустыне гораздо легче идти, ведь проверить-то все равно их, считай, некому… А кочевники носят тюрбаны оттого, что им так велел какой-нибудь Каипора под страхом немедленной мучительной смерти. Смерти... Где же она?
– Хрен тебе, старуха костлявая, – выдохнул Джон. – Сначала возьми.
Он зашагал вперёд, увязая в песке. Сперва идти было трудно, потому что он поднимался по склону дюны, потом дорога пошла вниз, и стало легче. Затем всё повторилось, опять вверх, и снова вниз, и опять вверх, и опять вниз. Дюны были бесчисленны, и бесчисленными были рассыпанные на склонах кляксы хищного винограда. Огромное солнце поднималось выше: Джон невольно щурился и отворачивался, чтобы не ослепнуть. Куртку он все же пристроил на голову, только не стал накручивать высокий жаркий тюрбан, а просто натянул воротник на макушку, так что над плечами образовалось нечто вроде палатки. Небо теперь было не синим, а белым, прокалённым, и жар, шедший сверху, давил на плечи, словно тяжкая душная перина. Ветер шуршал песком, хлестал по лицу горячей сухой тряпкой. Дюны шелестели под его порывами, шептались, и человеку не стоило слушать этот разговор, потому что мёртвый песок и мёртвый ветер могли говорить только о смерти. Джон шагал вперед, прикрывая глаза от солнца. Он не знал, зачем и куда идёт, ни на что не надеялся – даже встретить другого умирающего здесь, видно, было не суждено – но остановиться означало сдаться, вверить себя костлявой старухе. Поэтому он шёл, не останавливаясь, обходя кусты песчаного винограда и оглядывая горизонт каждый раз, когда взбирался на вершину очередной дюны.
Пот капал с бровей, стекал ручейками по спине, разъедал полученные в драке ссадины. Воздух был таким горячим, что обжигал горло; глотать было больно, язык превратился в жёсткую дерюгу. На зубах хрустела пыль. Сперва Джон бормотал под нос, пытался беседовать сам с собой – рассуждая о том, что здесь бывает, кроме солнца и песка, уговаривая себя вскарабкаться на крутой песчаный холм, прикидывая, сколько лидов уже осталось позади. Потом говорить стало невмоготу, и он продолжил свой путь в молчании, слушая, как ветер шепчется с песком, и считая про себя шаги. Каждый раз, когда счет переваливал за тысячу, Джон начинал заново. Где-то в начале пятой тысячи он оступился, упал и зашипел, обжегшись голой рукой о песок. Подниматься оказалось неожиданно трудным делом: голова кружилась, а ноги словно подламывались в коленях. Джон остался бы лежать там, где упал, но раскалённый склон дюны жарил кожу сквозь рубашку. Волей-неволей пришлось вставать, помогая себе бранью. В следующий раз он упал, когда оставалось не больше полусотни шагов до семи тысяч. Затем стал падать чаще, примерно через три-четыре сотни шагов.