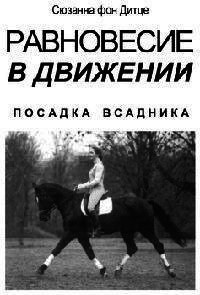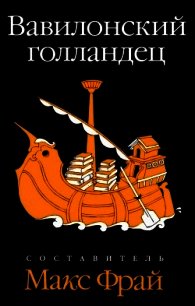В сердце роза - Гарридо Алекс (читать полностью бесплатно хорошие книги TXT) 📗
— Ты считаешь себя мужчиной, предатель? Долг мужчины — служить своему царю и служить верно. Я больше мужчина, чем ты.
И во весь голос:
— Измена! Еда отравлена!
И нож летит в горло.
И Хойре кажется: нож летит медленно-медленно, длинной рыбой горных ручьев, отливая перистым узором драгоценной стали, и медленно-медленно навстречу ножу выступает Юва, поднимается на носки, беспомощно и бесполезно раскинув руки, а нож летит, и это ему — в горло, а ей, теперь уже ей — в лицо, и ничего не успеть, но как медленно все и тягуче, и вязко, мучительно, бесконечно, и можно еще успеть: протянуть руку, чтобы оттолкнуть ее, но оттолкнуть уже не успеешь…
И чистый звон стали о сталь, и лязг. И нож крутится на полу, и лезвие рядом, а другие летят из-за головы Хойре, так быстро, только мгновенные высверки по сторонам, и им навстречу тоже сверкает, и звенят, сталкиваясь, но не все…
И тот, напротив, в тени, падает, и Юва оборачивается — глаза во все лицо! — и бросается на шею, и сзади по плечам и спине дружески похлопывают руки.
— Ты не из рода Шур? — спрашивают, смеясь. И один:
— Честью будет назвать тебя братом.
А другой:
— Сына моего отдам тебе на воспитание.
И нет их.
И можно сесть на ковер и гладить ее по волосам, и страшное — позади.
О свадьбе
Тут и решили, не откладывая, справить им свадьбу. Неизвестно, что ожидает всех завтра, пусть сегодня эти двое уснут мужем и женой, что бы это ни значило для них. А чтобы не оставались бездетными, не терпели стыда перед людьми, дали им Гури в сыновья и Нисо в дочери. А чтобы не оставались бездомными, тут же дали им во владение Кав-Араван, ведь Тахин отказался принять замок обратно, как ни уговаривал его Акамие.
Акамие написал им вольные на шелковых платках, больше не на чем было.
— Иди, поставь свою печать, — попросил Акамие брата, — моей власти ныне нет в Хайре, как бы не усомнились в их праве.
Эртхиа развел руками:
— Остался мой перстень в оазисе Дари.
— Ты был там? — замер Акамие. — И что?
— Я привез оттуда одного, которого хотел бы поручить твоим заботам. Не знаю я, что лучше для такого, как он. Брат он мне — примешь его братом тоже? Сю-юна отпустил бы…
— Примет ли его У Тхэ? Они так привержены совершенству, — усомнился Акамие.
— Это да, это верно.
— Боюсь, господин не простит Сю-юну того, каким застал его здесь.
— Не из камня же у него сердце?
— Кто знает, кто знает… — вздохнул Акамие. — Ты, я понял, его господину теперь господин, так вели ему…
— А что, он такой. Велю — и подчинится. Всей душой подчинится, вот ведь они какие. Но сначала пусть сами, так вернее. А уж если не выйдет…
— Ладно, тебе виднее, а вот что нам делать с вольными?
— Погоди с этим, решим, не забудем.
— И еще… Ты расскажешь мне о Дари? После?
Ашананшеди тем временем совещались над свадебным угощением, припоминали, кто за кем приглядывал, кто куда и надолго ли отлучался, что из еды возможно оставить на столах, от чего надлежит избавиться. И так доверяли им все, что сели за столы без опаски и начали пир.
Какие песни пели на этой свадьбе, какие истории рассказывали!
Тахин сидел со всеми, но не прикасался ни к угощению, ни к дарне. Молчал. И никто его не трогал. Он хотел быть со всеми. Но не мог.
Согревшись, засыпали прямо над едой (а казалось: ни кусочка лепешки, ни капельки жира не оставят).
— Все, — сказал Акамие, переглянувшись с Дэнешем. — Теперь будем спать. Завтра идти.
Все завозились, выбираясь из одеял и теплых плащей, в которые кутались. У Тхэ выпутался быстрее всех, поклонился, поднялся на ноги и вышел вон, как будто только и ждал этих слов, чтобы выйти. Не оглянувшись.
Акамие повернул голову. Сю-юн, причесанный, набеленный, сидел рядом неподвижно с неподвижным лицом. Мимолетно коснувшись его колена, Акамие качнул кистью в сторону двери и подтвердил глазами: иди за ним. И Сю-юн поклонился, встал и пошел за У Тхэ.
В комнате, отведенной им самим себе для сна, У Тхэ снизошел услышать быстрые легкие шаги за спиной и обернулся. Посмотрел.
— Выполняю повеление, — склонившись, ясным голосом сказал Сю-юн. И больше ни слова не говоря, подошел к У Тхэ и протянул руки, и У Тхэ сбросил ему на руки кафтан.
— Это ты?
Акамие упал в темноту, в протянутые навстречу руки, ужаснулся силе их, когда стиснули — не вздохнуть, лицом к лицу, обхватил ладонями его затылок, прижал, прижал, даже не целуя — втискивая себя в него, его в себя.
— Это я, — задыхаясь, отозвался Дэнеш. — Это ты, это ты… — как будто удивлялся и удивлялся, как будто что-то удивительное могло быть в том, чтобы им стиснуть друг друга, вцепиться друг в друга, как бы терпящим бедствие — в свое спасение. — И слушать не стану, — говорил прямо в его лицо, в глаза и брови, в губы, в щеки, в ноздри, в висок, в тонкие хрящи уха: — не стану слушать, молчи… как раба… как с рабом… царь! никогда ты мне царем не будешь, ты, жизнь, ты, смерть моя, ты все мое, гибель, отрава, слушать не стану, не смей, молчи…
И молчал.
Тахин же пришел к Арендже, и лег с ним, и укрыл своим плащом.
— Это ты? — Это я.
О Сирине
Он пришел и встал на скале над замком, почти невидимый, белый на белом снегу.
Издалека он увидел свет над Кав-Араваном и шел на этот свет.
Не скудный свет уже погашенных светильников, не свечение догоравших в очагах углей.
Пылал в ночи Кав-Араван, полный любви.
Утром собирались в дорогу.
— Куда ты теперь? — спросил Акамие брата.
— Знаешь сам. А ты?
— Я должен пойти в Аиберджит. Может быть, Сирин знает, что мне делать, и как спасти Хайр, и как избыть мою вину.
— Мало тебе, что я туда ходил — не много радости нашел.
— Мое царство погибло.
— А мое-то? Я туда пришел, и оно погибло.
— Но мое уже погибло, терять нечего.
— А он скажет: погибло, потому что ты незваным явился. И понимай, как хочешь. Выходит, явился, потому что погибло, а не явился бы — и нужды бы не было туда переться, — Эртхиа развел руки.
— Он так сказал тебе?
— Да.
— А в прошлый раз ты этого не смог рассказать — ничего о долине.
— И верно. К чему бы это? — насторожился Эртхиа. Оглядел потолок над собой, прислушался к нутру — ничего особенного, гибелью грозящего. — А видел я Сирина, — начал он осторожно, — облаченного в радугу, и был он с тобой — одно лицо, как будто он — твое отражение, вызволенное из зеркала. А?
И ничего не изменилось. Тогда Эртхиа топнул ногой:
— Ну, и где твои страшные кары? Вот, я раскрою твои секреты, расскажу о твоих тайнах, о мордах каменных твоих, о двойниках твоих!
— Не надо бы, Эртхиа, — зашептал Акамие, хватая его за плечо. — Только-только ведь вздохнули…
— Да пусть его, — усмехнулся Сирин. — Много не расскажет. Да и то, что расскажет — неправда.
Он был здесь, между ними, и Эртхиа видел его юным, серебряным, радужным, а Акамие — стариком в пыльном плаще, как всегда.
— Как же?! — возмутился Эртхиа. — Как — неправда? Я своими глазами видел и памяти не потерял.
— А кто еще сможет увидеть это твоими глазами? То, что ты видел — твое. И то, что слышал. От меня там ни слова, ни полсловечка.
— Отпираешься?
— Да нет, просто объясняю. Сам ведь ты тогда еще сказал: каждый раз храм — разный. Только не в храме дело. Понимаешь?
— Понимаю, — ответил за брата Акамие. — А я — что увидел бы? Что сказал бы себе твоими устами?
— А не боишься?
— Чего же еще мне теперь бояться?
— А тебе нечего терять?
— Есть, но Хайр — больше. Скажи мне о Хайре.
— Оставь эти мысли.
— Но в Хайре теперь война, потому что я был негодным царем и заплатил за жизнь одной улимской малышки покоем всего царством, а это неправильно.
— С каких пор ты так решил? Ну-ка, ну-ка. Негодным царем, говоришь? Не призвать ли нам сюда бесценного твоего ан-Реддиля, пусть бы напомнил, чего так желали, сильнее, чем пищи и вина, сильнее, чем желали жен своих, благородные всадники Хайра? Не войны ли желали они? Ну так они ее получили.