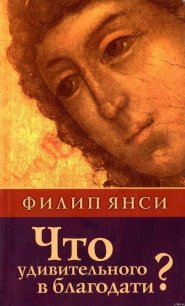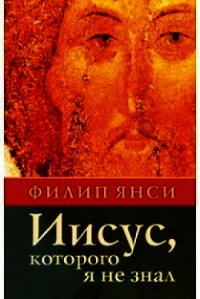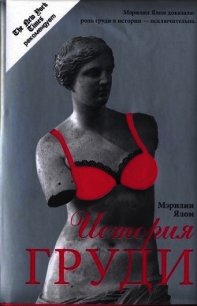Ученик монстролога - Янси Рик (читаем книги txt) 📗
— Принеси-ка жемчуг, Уилл Генри.
Я поднялся и, шатаясь от усталости, подал ему поддон, в котором лежало жемчужное ожерелье. Уже несколько часов оно отмокало в спирту; большая часть крови смылась, окрасив жидкость в довольно приятный розовый цвет. Доктор стряхнул остатки растворителя, расстегнул застежку и бережно уложил переливающуюся белую нить вокруг того, что осталось от шеи девушки.
— Что тут скажешь, Уилл Генри? — пробормотал он, пристально глядя на останки грустными глазами. — Все то, что когда-то смеялось, плакало и мечтало, становится кормом для скота. Судьба привела к ней Антропофага, но если бы не он, то, несомненно, червь, этот не менее прожорливый и алчный зверь, добрался бы до нее. Есть монстры, которые ждут всех нас по нашем возвращении в землю, куда денешься?
Он накинул простыню на лицо девушки и отвернулся.
— У нас не так много времени. Где есть один монстр, там и другие. Антропофаги не особенно плодовиты, у них рождается один-два отпрыска в год. Тем не менее мы не знаем, сколько уже времени они, никем не замеченные, живут здесь, на Новой Земле. Безотносительно того, каково их истинное число, где-то в окрестностях Нового Иерусалима живет размножающееся племя этих людоедов. И его необходимо найти и искоренить — в противном случае они нас погубят.
— Да, сэр, — пробормотал я в ответ. Я почти не чувствовал своей головы, ноги и руки отяжелели, а лицо Доктора расплывалось перед глазами.
— В чем дело? — негодующе спросил он. — Что с тобой? Уж не собрался ли ты упасть в обморок, Уилл Генри?
— Никак нет, сэр, — помотал я головой и рухнул на пол.
Он сгреб меня в охапку и понес на руках вверх по лестнице, через кухню, озаренную нежным светом весеннего солнца, на второй этаж, а там поднял по маленькой лесенке на мой чердак, где положил меня на кровать поверх одеяла, не потрудившись даже стянуть с меня измазанную кровью одежду. Однако он снял с меня шапку и повесил ее на крючок на стене. Вид этой поношенной шапочки, жалко и одиноко повисшей на крючке, стал для меня последней каплей. В этой шапке воплощалось все, что я потерял в жизни. Разочаровать Доктора, показать, что у меня не хватает силы духа и мужества, — об этом мне даже помыслить было страшно. Я сломался на ерунде: на контрасте нереального ужаса последних часов и вида своей шапки и воспоминаний, связанных с ней.
Я разрыдался, свернувшись калачиком, всхлипывая и держась за живот, а Доктор стоял надо мной, не выказывая ни малейшего намека на сочувствие или утешение. Он просто рассматривал меня с таким же напряженным любопытством, с каким только что рассматривал самца Антропофага.
— Ты, должно быть, скучаешь по родителям? — спросил он тихо.
Я кивнул, не в силах говорить от рыданий, выворачивающих внутренности. Он кивнул: гипотеза подтвердилась.
— Я тоже, Уилл Генри, — сказал он. — Я тоже.
Доктор был весьма искренен. Оба моих родителя были его слугами; моя мама содержала в порядке жилище, а отец, как и я после его смерти, держал в тайне то, что происходило в доме. На их похоронах Доктор положил руку мне на плечо и сказал: «Не знаю, что мне теперь делать, Уилл Генри. Их услуги были так необходимы мне!» Казалось, он забыл, что разговаривает с только что осиротевшим и потерявшим кров ребенком.
Не было бы преувеличением сказать, что мой отец боготворил Доктора Уортропа. И было бы больше, чем преувеличением — нет, чудовищной ложью! — сказать, что так же относилась к Доктору моя мать. Теперь, оглядываясь назад со всем опытом прожитых лет, я хорошо понимаю, что основные трения между родителями были из-за Доктора. Или, скорее, из-за папиной любви и преданности ему. Преданности, которая была сильнее всего остального в его жизни, даже сильнее супружеских и отцовских чувств. Нет, отец любил нас с мамой, в этом я никогда не сомневался. Просто Доктора он любил больше. И в этом был корень ненависти моей матери к Доктору. Она ревновала. Она чувствовала, что ее предали. И именно ощущение предательства вело к самым яростным ссорам между родителями.
Задолго до той ночи, когда пожар отнял у меня их обоих, я лежал в кровати, не мог заснуть и слушал сквозь тонкие стены своей комнаты в доме на улице Клэри-стрит звуки голосов родителей, нарастающие и разбивающиеся о штукатурку, как штормовые волны о волнорез. Это была кульминация ссоры, начавшейся давным-давно. Обычно это происходило, когда отец возвращался, опоздав к ужину, — опоздав, потому что Доктор задержал его.
Бывало, что отец не возвращался к ужину вовсе. Бывало, что он не возвращался несколько дней. Когда же, в конце концов, он приходил, а я с воплем восторга кидался к нему в дверях, он переводил взгляд с моих восторженных глаз на мамины — отнюдь не такие счастливые, как у меня, — глуповато улыбался, беспомощно пожимал плечами и говорил: «Я был нужен Доктору».
— А как насчет меня? — восклицала мать. — Как насчет твоего сына? Как насчет того, что нужно нам, Джеймс Генри?
— Я — все, что у него есть, — был решительный ответ.
— А ты — все, что есть у нас. Ты пропадаешь целыми днями, не возвращаешься, не предупреждаешь никого, куда идешь и когда вернешься. А когда, наконец, приползаешь, измотанный и обессиленный, ты даже не удосуживаешься сказать, где ты был и что ты делал.
— Послушай, Мэри, вот этого не надо — не надо на меня давить, — решительно предупреждал ее, бывало, отец. — Есть вещи, которыми я могу поделиться с тобой. Но есть то, о чем я не могу рассказать.
— Можешь поделиться? Что же это такое, интересно, Джеймс Генри? Ты ведь не говоришь мне вообще ничего!
— Говорю то, что могу сказать. А могу я сказать, что Доктор проводит очень серьезные исследования и ему требуется моя помощь.
— А мне не требуется?! Ты ввел меня во грех, Джеймс!
— Грех? О каком грехе ты толкуешь?
— Грех лжи! Соседи спрашивают: «Где твой муж, Мэри Генри?», а я вынуждена лгать — ради тебя, ради него. О, как это унизительно — лгать ради него!
— Так не делай этого. Скажи им правду. Скажи им, что не знаешь, где я.
— Это было бы еще хуже, чем солгать. Что они сказали бы тогда обо мне — жене, которая не знает, где ее муж?
— Не понимаю, почему это должно волновать или уязвлять тебя, Мэри. Если бы не Доктор, что бы у тебя было? Именно ему мы обязаны всем!
Этого она не могла отрицать, так что просто ничего не отвечала.
— Ты не доверяешь мне.
— Да нет же. Я просто не могу предать Доктора.
— У честного человека не должно быть секретов.
— Ты не понимаешь, о чем говоришь, Мэри. Доктор Уортроп — самый честный человек, которого я когда-либо знал. Служить ему — честь для меня.
— Служить ему — в чем?
— В его исследованиях.
— Что это за исследования?
— Он — ученый.
— И что он изучает?
— Некий… биологический феномен.
— И что все это значит? Что за «биологический феномен»? О чем ты говоришь, что это такое? Птицы? Пеллинор Уортроп изучает жизнь птиц в природных условиях, Джеймс Генри, а ты держишь для него бинокль?
— Я не буду обсуждать это, Мэри. Я больше ничего не скажу тебе о характере его работы.
— Почему?
— Потому что тебе лучше этого не знать! — Впервые отец повысил голос на мать. — Говорю тебе как на духу, бывает, что я и сам предпочел бы не знать! Я видел такое, чего не видел ни один человек на свете! Я бывал в таких местах, куда сами ангелы не решились бы ступить. И не пытай меня больше, Мэри, потому что ты сама не знаешь, о чем просишь. Будь благодарна за свое неведение и наслаждайся ложью, которой тебе приходится платить за него! Доктор Уортроп — великий человек, делающий великое дело. Я никогда не предам его, хоть бы сама преисподняя вступила в противоборство со мной.
Вот так обычно все и обрывалось, хотя бы на некоторое время. Обычно — на то время, пока отец укладывал меня спать. Прежде чем присоединиться к матери в гостиной и вновь вступить в противоборство с ее гневом, сравнимым с жаром самой преисподней, отец всегда целовал меня в лоб, гладил по голове, закрывал глаза, пока я читал вечернюю молитву.