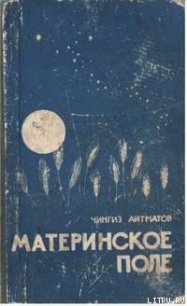Колдуны и министры - Латынина Юлия Леонидовна (книга жизни .txt) 📗
– Нет, – сказал Шимана, – но люди нашли, что здесь лучше говорить.
– Если государь подпишет конституцию, – справился Нан, – как мы поступим с Киссуром и Арфаррой?
– Как можно, – возразил один из спутников, – вводить в действие конституцию, не расправившись с ее врагами?
Триста выборных от «красных циновок» Шимана подобрал с большой тщательностью. Все это были отцы семейства, люди состоятельные и благоразумные, одетые в кафтаны скромных тонов, но отменного качества. Признаться, они собрались вовсе не для того, чтобы принимать конституции, хотя бы и верноподданнические, и на следующий день после знаменательной ночи разводили руками и удивленно глядели на божий свет, как бы спрашивая: «Гм, а что это мы такое сделали?»
Между тем в толпе, собравшейся на площади, и требовавшей хлеба, зрелищ и конституции, не у всех были кафтаны из наилучшего сукна, и одни носили штаны на завязочках, а другие и вовсе ходили в набрюшных юбках. Из-за этих разногласий в одежде у них вышло некоторое разногласие во мнениях, и когда люди в кафтанах скромных тонов и наилучшего качества пошли во дворец, то люди в штанах на завязочках остались на рыночной площади.
Площадь переименовали в площадь Свободы, а лавки перевернули и соорудили из них помост для ораторов. Эти люди на площади Свободы не могли похвалиться, что их кто-то избирал, и им пришлось говорить, что их избрало само небо. Они разъясняли, что источник власти – не какой-то там выборный Совет, а весь народ, что «парчовых курток» надо заменить вооруженным ополчением народа, а чиновников выбирать и сменять по первому почину народных масс.
Против торговцев люди с площади Свободы ничего не имели, а просто употребили, как было сказано, лавки для трибун и баррикад. В первый день все вышло как нельзя лучше, потому что люди, пришедшие за покупками, стали слушать говорящих с трибун. Но на следующий день, когда Андарз штурмовал дворец, они все-таки захотели купить муку и рис, а мука и рис куда-то сгинули. Тогда один из людей в штанах со шнуровкой закричал, что лавочники сговорились с Арфаррой и спрятали муку и рис, чтобы усмирить народ голодом и высокими ценами.
Против конституции они также ничего не имели, потому что знали, что это новый закон, по которому теперь поля будут плодоносить четыре раза в год, а рис будет стоит грош – два мешка. Поэтому они сообразили, что лавочники действуют против новой конституции, и повесили нескольких лавочников, но рис от этого не появился.
Этих-то повешенных лавочников и заметил Нан, проходя через рыночную площадь, а двумя часами раньше их заметил Киссур.
После света, толпы и криков Нан очутился в небольшой двуступенчатой комнате, в глубине сада. Комната, как и два года назад, была завешана красными циновками. В глубине комнаты по-прежнему сидела пожилая женщина, писаная красавица, и ловко плела циновку. Нан и Андарз совершили все подобающие поклоны, а толстый Шимана стал на колени и некоторое время целовал ей ноги.
– Что, Нан, – спросил тихо Андарз, начальник «парчовых курток», – вы по-прежнему опасаетесь быстрых перемен?
Нан отозвался:
– Ничто не бывает дурным или хорошим само по себе, но все – смотря по обстоятельствам. Все мысли чиновника должны быть о благе народа. Если в стране самовластие – он использует самовластие. Если в стране революция – он использует революцию.
Господин Нан испросил дозволения помыться: по истлевшему в тюрьме платью так и ползали вши. Шимана с радостью предоставил ему и ванну, и красный кафтан из сукна лучшей выделки, который обыкновенно носили «циновки»; но, когда Нан снова появился в гостиной, на нем, к некоторой досаде сектанта, был атласный кафтан цвета имбиря, украшенный по обшлагам двумя рядами жемчужных нитей, и даже расшитый, по подолу, вытканными иглой золотыми оленями, – одежда, которую министру прислали из дома.
Шимана снова поклонился Нану и хлопнул в ладоши: вооруженные люди внесли праздничную еду, поклонились и пропали. Между прочим на серебряном блюде внесли круглый пирог-коровай. Шимана разрезал пирог на три части и с поклоном положил Нану на тарелку кусочек пирога. Нан взял другую треть пирога и с поклоном положил ее на тарелку Андарзу, а Андарз, в свою очередь, поднес кусочек пирога хозяину. После этого гости приступили к трапезе.
– А что, – спросил Нан внезапно, – я видел, как на площади народ теребил этого негодяя Мнадеса, и потом встречал обрывки Мнадеса в разных местах. Как вы об этом полагаете?
– Я об этом полагаю, – отвечал с важностию Шимана, – что это дело божие.
Нан взглянул в глаза еретика и с удивлением обнаружил, что они совершенно безумны.
– Великий Вей, – сказал с тоской министр Андарз, – они разбили все вазы из собрания Мнадеса. Последние вазы ламасских мастеров! И знаете, кто это был? Только лавочники, ни одного нищего! Нищие завидут лавочникам, а не министрам! Все разбили, и кричали при этом: «Кто украдет хоть ложку, будет повешен!»
Шимана не удержался и сказал:
– Это автор памфлета о «Ста вазах» растравил им душу. Если бы не этот памфлет, о вазах бы не вспомнили.
Это было жестоко: многие знали, что автором памфлета о «Ста Вазах» был сам министр полиции.
– Эти вазы, – сказал Андарз, – спаслись при государе Иршахчане, когда дворец горел три месяца. А знаете, что эти лавочники сделали потом? Попросили заплатить им за шесть часов работы!
Наконец глава еретиков, беглый министр полиции и народный премьер закончили с пирогом. Андарз едва притронулся к еде. Перед глазами его стояли печальные и немного удивленные глаза зверей на раздавленных черепках. Он едва сдерживал себя, чтоб не разрыдаться и чувствовал, что что-то непоправимо оборвалось в мире.
Подали вторую перемену блюд: жареные грибы с просом, галушки, пряженые в оливковом масле, печеные фрукты «овечьи ушки» и рыбу всех четырех цветов, – рыбу белую, рыбу красную, рыбу желтую, и вяленую рыбу-пузанка в соусе из речных водорослей, с телом таким прозрачным, что в нем можно было разглядеть рыбьи ребрышки.
– Что мы будем делать, – сказал Нан, – если государь не подпишет конституции?
Еретик Шимана подозвал мальчика с розовой водой, вымыл в воде руки и вытер их о волосы мальчика.
– Мне было видение, – сказал Шимана, – что государь Инан жив.
Государь Инан, напомним, был старший брат царствующего государя Варназда, тот самый, которого монахи-шакуники подменили барсуком. Вдовствующая государыня дозналась об этом и казнила и барсука, и монахов.
Шимана хлопнул в ладоши: одна из дальних циновок приподнялась, в глубине комнаты показался человек. По кивку Шиманы он подошел поближе. Ему было лет тридцать на вид. Простоватое лицо, подбородок скобкой, глаза широко расставлены и чуть оттянуты книзу. Самое смешное, что человек и вправду несколько походил, сколь мог судить Нан, на казненного юношу.
– Как же вам удалось спастись, – спросил Нан, – и где вы были эти годы?
– Я, – сказал человек, по-детски выкатывая глаза, – был предупрежден о замыслах монахов, и лежал в постели, не смыкая глаз. Когда монахи, превратив меня в барсука, хотели меня задушить, я выскочил и утек через очаг. И, – запнулся государь-барсук, – я бегал по ойкумене одиннадцать лет, уязвляясь страданиями народа, а неделю назад мне во сне явилась матушка Касия, и сказала: «Сын мой! Иди в храм „красных циновок“ и потри там голову об алтарь, – Единый Господь простит тебя, и твой облик и твой престол будут возвращены тебе».
– Я, – прибавил человек, с надеждою глядя на Нана, – буду хорошим государем. Я видел страдания народа.
Расколдованный барсук поцеловал руку Шиманы и удалился.
– Ну что? – спросил с надеждой Шимана.
– У него неплохие манеры, – сказал Нан.
– Нет такого идиотизма, – проговорил министр полиции, – которому бы народ не поверил.
– Политика, – заметил Нан, – это искусство говорить языком, доступным народу. От их речей, – и он кивнул куда-то в сторону залы Пятидесяти Полей, – народ скоро соскучится, а про барсука он понимает.

![Поле битвы — Земля [Поле боя — Земля] - Хаббард Рональд Лафайет (хорошие книги бесплатные полностью txt) 📗](/uploads/posts/books/10632/10632.jpg)