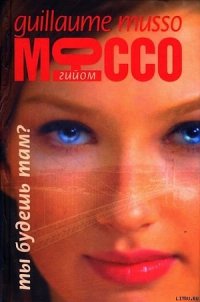Первый отряд. Истина - Старобинец Анна Альфредовна (список книг txt) 📗
Д: Это какое-то чудовищное…
С: Молчать! Вы вели двойную игру! Розенкрейцера Белюстина арестовывали три раза — и каждый раз выпускали, потому что приходил приказ сверху! Розенкрейцер Белюстин оказывался вдруг ценнейшим сотрудником Беловым! Ни в чем не повинные сотрудники правопорядка, честно выполнявшие свою работу, получали выговоры, получали сроки! А ценнейший сотрудник Белов выходил на свободу — чтобы снова играть в графа Сен-Жермена! Тогда, в сороковом, вас взяли в последний раз. Как Белюстина. Белюстин проходил по делу востоковедов. Белюстин обвинялся в шпионаже. Белюстину грозила вышка. Но, как всегда, пришел приказ сверху. Вместо вышки Белюстин получил десять лет лагерей. Белюстин отправился в лагеря, где мистическим образом исчез… Ну а как же иначе? Он же был маг все-таки… А вот генерал Белов — генерал Белов продолжил трудиться в поте лица своего…
Д: Все, что вы говорите, не имеет никакого…
С: Быть Белюстиным для вас стало слишком опасно, не правда ли? С тридцать седьмого по сороковой были расстреляны почти все ваши высокопоставленные «опекуны»! Игра не стоила свеч! Тогда, в сороковом, вы решили отказаться от личины Белюстина. Вы стали просто Беловым. Так? Так, я вас спрашиваю?! Молчите, генерал?… Может быть, ждете, что придет приказ сверху — «освободить», как обычно? Не придет, не мечтайте… Теперь только мы. Честные и беспристрастные защитники советской страны.
Д: Честные и беспристрастные… Именно поэтому вы обвиняете меня, основываясь на показаниях предателя Никифорова? На показаниях, наверняка данных под пытками?
С: Ну во-первых — почему же под пытками? Мы не применяем пыток без крайней необходимости. Вот вас же мы не пытаем… Вы нам все сами рассказываете. А во-вторых — с чего вы взяли, что мы основываемся только на показаниях Никифорова? У нас есть еще показания двух замечательных офицеров. В сорок первом году они служили близ Севастополя, на территории бывшего Георгиевского монастыря. Они видели вас там, генерал. Видели в сопровождении попа. Ныне покойного. По странному совпадению, он скончался совсем недавно. И тоже в Крыму. Ночное апноэ. Смерть от удушья… Символично, не правда ли? Но речь сейчас не о том. Так вот, этот поп — отец Николай, если не ошибаюсь — этот поп называл вас Графом тогда, в сорок первом. Что вы делали в Крыму, Граф? Что вы делали там в сорок первом — и что делали сейчас, в марте сорок четвертого? Отвечайте на вопрос! Если будете с нами сотрудничать, может быть, заменим вам вышку на пожизненные лагеря. Что, не хочется в лагеря? И вышку не хочется? Ничего не попишешь…. Предателей мы не щадим. И помощи вам ждать не от кого. Не осталось у вас наверху защитничков.
Д: А что мне Сталин? Меня Ленин на это место поставил.
С: Что вы сказали?!
Д: Я лишь процитировал слова товарища Глеба Бокия. Бокий сказал их в тридцать седьмом году, Ежову… Домой он после этого уже не вернулся. Такие, как он, — в конце тридцатых они часто не возвращались домой. Их истребляли. Всех, как вы говори те, «защитничков». Всех, кто имел собственную гордость и честь, всех, кто имел фантазию, талант, дар, всех одиноких и страстных, всех вольнодумцев и хамов, всех Бокиев, блюмкиных и Варченко — их истребляли, последовательно замещали пустыми, послушными, одинаковыми, такими, как вы, не видевшими ничего до, не ждущими ничего после… А тех немногих, кого вы не добили тогда, вы добьете сейчас. Таких, как я. Тех, у кого до сих пор есть фантазия, талант, дар. Тех, кто обеспечил вам победу в этой войне. Теперь, когда война почти выиграна, такие, как я, больше вам не нужны. Вам больше не нужен наш дар. Наоборот, он вам только мешает. Вы ведь не можете его контролировать. Вы ведь не можете его даже понять!..
С: Поздравляю, Никита Александрович. Считайте, что вы только что подписали себе расстрельный приговор. Даже если представить себе, что все выдвигаемые против вас обвинения ложны, вы, безусловно, наговорили сейчас достаточно, чтобы поставить вас к стенке. Только плодотворное, только полноценное и безоговорочное сотрудничество может спасти вам…
Д: Я не боюсь высшей меры. Я не боюсь смерти. Я никогда не умру до конца.
С: Так вы признаете, что ваша настоящая фамилия — Белюстин? Вы подтверждаете, что считаете себя реинкарнацией графа Сен-Жермена, алхимика? Почему вы молчите, подследственный? Вы готовы к сотрудничеству?
Д: Да.
С: Вы готовы сделать признание?
Д: Да.
С: Я вас слушаю очень внимательно.
Д: Товарищ следователь, я… Все это время, что мы с вами беседуем… С самого начала нашей беседы я все хотел сказать вам… Идите на [1], товарищ следователь.
9
Некоторые люди страдают абсурдной, иррациональной, унижающей человеческое достоинство любовью к земле. Земли у таких людей бывает обычно мало — шесть соток потасканного, вялого, обезвоженного дачного суглинка, — но на этих сотках они самоотверженно убиваются четыре месяца из двенадцати, то есть треть своей жизни, неистово ковыряя, орошая, пропалывая, удобряя, окучивая, поклоняясь, пытаясь пробудить в бесчувственной и подмерзшей, уставшей от клиентов пожилой огородной фее либидо.
В награду за труды фея честно вымучивает из себя и дает поклоняющимся все, что способна им дать. Несколько десятков корнеплодов, пучки ароматного, тонкого как нитки, укропа, усатые кустики земляники, цветы на некрепких ножках… Благодарные дачники увозят в свои большие города несколько связок кривых морковок и несколько букетов кривых тюльпанов. Они не желают думать о том, что четыре месяца какого-нибудь иного труда, конвертированного затем в деньги, могли бы подарить им целую фуру заморских цветов и фруктов. Их любовь к земле бескорыстна, им вполне достаточно малого: нескольких зримых доказательств того, что их земля плодородна. Нескольких зримых доказательств того, что их жизнь продолжается — и при этом подчиняется им.
Так или примерно так рассуждает лопарь Данилов. Сам он живет иначе на своих шести сотках. Он давно понял, что рассчитывать на землю не стоит — рассчитывать можно лишь на гнилое болото, на россыпь пузатых слизисто-кислых ягод по триста рублей за ведро. Так что он не тревожит священную дрему подземных духов лопатами и граблями, его не заботят сорняки и дикий кустарник, он позволяет своей земле зарастать лопухом и крапивой, он давно примирился с тем, что ничего путного его земля не родит.
Тем более странно наблюдать результаты его трудов.
Вечерний туман плотным капроновым чулком обтягивает вывороченные с корнем лопухи и полынь — и рвется, разъезжается стрелками в тех местах, где его влажную ткань протыкают поломанные листья и ветки. Сарай открыт — Данилов, вероятно, брал грабли. Между поверженными сорняками чернеет узкая, длинная грядка. В конце ее, там, где узкая полоса обработанной земли неожиданно упирается в кусты, лежит глыба льда.
не грусти и не печаль бровей
Даже для Лапландии нетающая глыба льда в кустах в августе — это довольно странно. Любопытство — великое дело. На несколько счастливых секунд я забываю о предателях и их жертвах и оказываюсь на приусадебном участке Снежной королевы, и только сосульки прощальных есенинских рифм ритмично сочатся в мозгу ледяными звонкими каплями.
но и жить конечно не новей
Я подхожу ближе и трогаю ледяную глыбу рукой. Чары Снежной королевы рассеиваются. То, что с некоторого расстояния в тумане я принимала за лед, оказывается обернутой в плотный полиэтилен лодкой. Это она, лодка, прочертила по участку Данилова темную борозду. Это ее, а не грабли Данилов выволок из сарая. Вероятно, кусты сорняков мешали ему на пути — поэтому он их выдрал…
Откуда-то с противоположного берега реки раздается собачий вой — глубокий, изломанный, как горловое тувинское пение. Я машинально поднимаю голову вверх — увидеть то, что видит сейчас эта невидимая собака. В водянистом полярном небе, сдобренном каплей синих чернил, неуверенно повисла луна. Круглая и мутная. В молочной лужице топленого света она кажется немного несвежей.