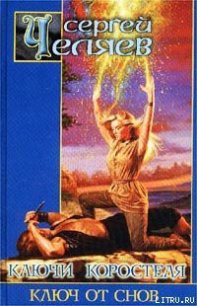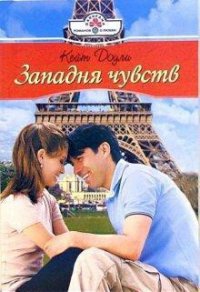Ключ от Снега - Челяев Сергей (читать книги регистрация TXT) 📗
Снегирь лежал на грязной соломенной подстилке и мрачно смотрел в потолок. Сегодня он твердо решил умереть, но не делать ничего, к чему бы его ни принуждали. Снегирь уже успел привыкнуть и к угрозам Колдуна, и к людоедским песням Клотильды, и даже к пронзительным холодным глазам Птицелова, зрачки которых то увеличивались, то сужались, как у человека, пристрастившегося к эликсиру из мандрагоры или вороньего глаза. У друида уже не оставалось ни сил, ни ненависти, ни каких-нибудь других желаний. Ему казалось, что в этих подземельях из него медленно, по каплям высасывают жизнь, и он был недалек от истины. Путей для побега Казимир не видел. Даже сны с трудом проникали сюда сквозь огромную толщу камня, только иногда казалось, что он слышит шум не то ночного ветра, не то бурлящего моря.
Неплохо бы утащить с собой во тьму и кого-нибудь из зорзов, но дьяволы были осторожны и никогда не развязывали ему рук. Казимиру все время мучительно хотелось пить, и он иногда прикладывался растрескавшимся ртом к сырому камню стены. Но влаги, которую он высасывал, было недостаточно, чтобы сделать даже один глоток, а на большее у него просто не хватало ни сил, ни терпения. Жизнь сжалась в Снегире маленьким ощетинившимся клубком, который теперь раскрывался все реже и реже. Единственное, что оставалось сейчас Казимиру, – это воспоминания. Ломать голову над колдовством зорзов он перестал уже давно, поскольку ничего не мог в нем понять. Еще он иногда думал о друзьях. Снегирю почему-то все чаще казалось, что Травника и остальных на этом проклятом острове, ставшем его тюрьмой, нет. У него были основания так думать, потому что последняя мысль, неизменно приходившая ему перед сном, который больше походил на тягостное, больное забытье, была всегда о Молчуне. И тогда Снегирь бешено кусал губы и тихо мычал от отчаяния и ощущения собственного бессилия. И еще – ненависти.
Гвинпин сидел на могильной плите и смотрел на луну. Она сияла прямо перед ним, и он смотрел на ее блеск, не мигая, потому что мигать ему было нечем – вместо ресниц Создатель кукол снабдил его белесой пленкой, которая могла затягивать ему глаза, совсем как у настоящих птиц. Над луной вились мошки, а Гвинпин воображал, что это весело кружатся маленькие звездочки, которые опустились с неба так далеко вниз, к нему, просто так, из чистого любопытства. Комары Гвина не беспокоили, и он не беспокоил их. Тревожило его совсем другое: ему все больше начинало казаться, что старая желчная друидесса сейчас толкает их с Лисовином в самое пекло, прямо в когти, и даже не Коротышке или Кукольнику, а диким и жестоким чудинам. А этим ничего не стоит принести в жертву даже деревянную куклу.
Конечно, думал Гвиннеус, силясь разглядеть на луне человеческое лицо, которое там было, если верить рыжебородому друиду, есть такие вещи как военная хитрость. Но почему-то еще никто не признался, что на свете может существовать и военная глупость, а он уже почти уверился, что сейчас – как раз именно тот случай. Перед Гвинпином утопало в ночных цветах кладбище друидов, лежащее в заветном Лесу их служений по имени Май. Гвинпин смотрел на луну, и на душе у него скребли тупыми когтями большие деревянные кошки.
Рута стояла под своей любимой старенькой яблоней, на которой с каждым годом появлялось все меньше и меньше плодов. Отец уже который год грозился ее спилить, но Гражина каждый раз вставала на его пути то со скалкой, то со сковородой. На самом деле родители никогда не ссорились – как говорила мать, отчудили в молодости сполна, и это была только своеобразная игра. Правда, Рута видела, как мать однажды подошла к яблоньке и, размашисто орудуя деревянным молотком, вбила в ствол длинный ржавый гвоздь. Но деревенские приметы не сбывались, и Рута с грустью видела, как высыхали ветви, отмирала кора, а из весеннего розового и белого марева лепестков получались все больше пустоцветы. Сегодня девушка тревожилась весь день, несмотря на то, что Молчун очень быстро шел на поправку. Она теперь почему-то постоянно думала о том, как там Ян, а ранним утром слышала, как в небе над городом пролетали журавли. Куда направлялись птицы посреди лета, она так и не поняла; клин летел молча, следуя за своим опытным вожаком. Над садом сгущались сумерки, и над самыми верхушками деревьев кто-то проплыл на неслышных крыльях. Руте даже почудилось, что ее обдало слабым ветерком, и она вздрогнула от неожиданности, когда кто-то сзади обнял ее за плечи. Это была мать, которая подошла так тихо, что девушка даже не заметила.
– Ты что, дочка? – мягко спросила Гражина, с затаенной материнской любовью глядя на Руту.
– Так, мама… Просто отчего-то немного взгрустнулось.
Они немного постояли под яблонькой, помолчали. Потом мать вздохнула.
– Что-то сова разлеталась. Слышала?
Рута молча кивнула, зябко кутаясь в принесенный матерью большой и теплый платок.
– Странно, – задумчиво проговорила Гражина. – Рановато бы еще для них. Время совы – август, а то и сентябрь. То-то я гляжу, будто в воздухе по вечерам какая-то стынь появилась. Чуешь?
Девушка безразлично пожала плечами. Ей почему-то захотелось плакать. Мать обняла ее крепче, увлекла к дому.
– Ничего, дочка. Вернется он, обязательно. А друг его уже здоровый, окрепнет маленько, и весточку с ним отправишь. Все будет хорошо. Мы же с отцом тебя любим.
Рута порывисто обернулась к матери, прильнула к ней грудью.
– Правда, мам?
– Ну, конечно, что ты! Пойдем в дом.
Они вошли в дом, оставив за дверью вечерний туман, но когда в кухне зажглась свеча, над садом вновь неслышно пролетела сова.
Осень тихо и незаметно шагала по небу, осторожно переступая через холсты картинок, разбросанных уходящим летом. Лето – веселый и беззаботный художник, любящий жизнь и потому покинувший свою мастерскую, увлекаемый очередной дамской шляпкой или поворотом прелестной головки. Он мчался по пятам за последней иллюзией остановившегося времени. Но время вряд ли способно сохранить навек то единственное мгновение, ради которого стоит и жить, и умереть, и к которому иная женщина идет всю жизнь, чтобы сгореть красиво и щедро глазастой бабочкой в пламени чьих-то безумных глаз. Но знало ли лето, что под паутинной вуалью и соломенной шляпкой, которой не в силах противостоять упорному и упругому полуночному ветру, ждет его не обольстительный вечер июня, не хмельная июльская ночь, и даже не тяжелая страсть налитых и ядреных плодов августа, а похмельное утро? Утро, раскрашенное тяжелым свинцом безысходности октября и выцветшей робостью морщинистого, унылого жнивья?
Времени жаворонков шло на смену время совы; птицы вставали на крыло и делали прощальные круги над городами, в которых до них уже никому не было дела. Время опускало голову под крыло, как большая взъерошенная ворона, забивалось под стреху, как голодный растрепанный воробей, бессмысленно топталось на месте, как самодовольная курица, равнодушная к пролетающим над головой стаям добровольных пернатых изгнанников. Но у времени были и другие крылья – большие, сильные крылья журавля, который вдруг оставил родной клин и, не оглядываясь, полетел вниз, тяжело взмахивая крылами и высматривая кого-то; туда, к земле, где грязно желтело колючее поле, уже отдавшее свой урожай неведомо кому, зачем и за какие заслуги. Журавлиное время еще не пришло, и птица мелкими шажками, как танцующая балерина, шла к далекому человеку, который только что появился из темного леса.
Люди всегда выходят из лесов, знала птица, но опасны они только в полях, на открытой местности. А раз так, то надо успеть предупредить, остановить этого долговязого молодого охотника, который сам еще не знает, какое оружие попало в его руки. Иначе потом он поймет, и уже всегда будет смотреть на летящего журавля в небе только как на добычу, но никогда – как на равного ему, живущего под этими облаками. А журавлю ведь только того и надо, чтобы на этом свете жили одни журавли – языков других журавлю не понять, а, значит, и нет в них смысла. Глупые люди, радуются, совсем как малые дети, аистам, селящимся на их крышах, и журавлям, пролетающим в небе. А журавль – птица хищная, нападает первой, лишь бы только до врага остался один шаг. Всего один шаг, крохотный шажок, как последнее содрогание застывших, неподвижных стрел, пронзающих время, как клюв журавля.