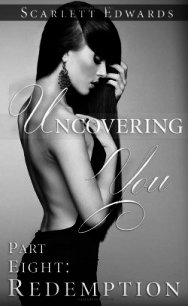Русская и советская фантастика (повести и рассказы) - Пушкин Александр Сергеевич (читаем книги онлайн бесплатно полностью TXT) 📗
«Это она!» — воскликнул сирийский царь. Нурредин узнал ее. Правда, под туманным покрывалом не видно было ее лица; но по гибкому ее стану, по ее грациозным движениям и стройной поступи разве слепой один мог бы не узнать на его месте, что эта девица была та самая Музыка Солнца, которая так пленила его сердце.
Едва увидела девица сирийского царя, как в ту же минуту обратилась к нему спиною и, как бы испугавшись, пустилась бежать вдоль широкой аллеи, усыпанной мелким серебряным песком. Царь за нею.
Чем ближе он к ней, тем шибче бежит девица, и тем более царь ускоряет свой бег.
Грация во всех ее движениях; волосы развеялись по плечам; быстрые ножки едва оставляют на серебряном песку свои узкие, стройные следы; но вот уж царь недалеко от нее; вот он настиг ее, хочет обхватить ее стройный стан, — она мимо, быстро, быстро… как будто Грация обратилась в Молнию; легко, красиво… как будто Молния обернулась в Грацию.
Девица исчезла; царь остался один, усталый, недовольный. Напрасно искал он ее во дворце и по садам: нигде не было и следов девицы. Вдруг из-за куста ему повеяло музыкой, как будто вопрос: за чем пришел ты сюда?
«Клянусь красотою здешнего мира, — отвечал Нурредин, — что я не с тем пришел сюда, чтобы вредить тебе, и не сделаю ничего противного твоей воле, прекрасная девица, если только выйдешь ко мне и хотя на минуту откроешь лицо свое».
«Как пришел ты сюда?» — повеяла ему та же музыка. Нурредин рассказал, каким образом достался ему перстень, и едва он кончил, как вдруг из тенистой беседки показалась ему та же девица; и в то же самое мгновение царь очнулся в своей палатке.
Перстень был на его руке, и перед ним стоял хан Арбаз, храбрейший из его полководцев и умнейший из его советников. «Государь! — сказал он Нурредину, — покуда ты спал, неприятель ворвался в наш стан. Никто из придворных не смел разбудить тебя; но я дерзнул прервать твой сон, боясь, чтобы без твоего присутствия победа не была сомнительна».
Суровый, разгневанный взор был ответом министру; нехотя опоясал Нурредин свой меч и тихими шагами вышел из ставки.
Битва кончилась. Китайские войска снова заперлись в стенах своих; Нурредин, возвратясь в свою палатку, снова загляделся на перстень. Опять звезда, опять солнце и музыка, и новый мир, и облачный дворец, и девица. Теперь она была с ним смелее, хотя не хотела еще поднять своего покрывала.
Китайцы сделали новую вылазку. Сирийцы опять отразили их; но Нурредин потерял лучшую часть своего войска, которому в битве уже не много помогала его рука, бывало неодолимая. Часто в пылу сражения сирийский царь задумывался о своем перстне, и посреди боя оставался равнодушным его зрителем, и, бывши зрителем, казалось, видел что-то другое.
Так прошло несколько дней. Наконец царю сирийскому наскучила тревога боевого стана. Каждая минута, проведенная не внутри опала, была ему невыносима. Он забыл и славу и клятву: первый послал Оригеллу предложение о мире и, заключив его на постыдных условиях, возвратился в Дамаск; поручил визирям правление царства, заперся в своем чертоге, и под смертною казнию запретил своим царедворцам входить в царские покои без особенного повеления.
Почти все время проводил Нурредин на звезде, близ девицы, но до сих пор еще не видал он ее лица. Однажды, тронутая его просьбами, она согласилась поднять покрывало; и той красоты, которая явилась тогда перед его взорами, невозможно выговорить словами, даже магическими, и того чувства, которое овладело им при ее взгляде, невозможно вообразить даже и во сне. Если в эту минуту сирийский царь не лишился жизни, то, конечно, не оттого, чтобы люди не умирали от восторга, а, вероятно, потому только, что на той звезде не было смерти.
Между тем министры Нуррединовы думали более о своей выгоде, чем о пользе государства. Сирия изнемогала от неустройств и беззаконий. Слуги слуг министровых утесняли граждан; почеты сыпались на богатых; бедные страдали; народом овладело уныние, а соседи смеялись.
Жизнь Нурредина на звезде была серединою между сновидением и действительностию. Ясность мыслей, святость и свежесть впечатлений могли принадлежать только жизни наяву; но волшебство предметов, но непрерывное упоение чувств, но музыкальность сердечных движений и мечтательность всего окружающего уподобляли жизнь его более сновидению, чем действительности. Девица Музыка казалась также слиянием двух миров. Душевное выражение ее лица, беспрестанно изменяясь, было всегда согласно с мыслями Нурредина, так что красота ее представлялась ему столько же зеркалом его сердца, сколько отражением ее души. Голос ее был между звуком и чувством: слушая его, Нурредин не знал, точно ли слышит он музыку или все тихо и он только воображает ее? В каждом слове ее находил он что-то новое для души, а все вместе было ему каким-то счастливым воспоминанием чего-то дожизненного. Разговор ее всегда шел туда, куда шли его мысли, так как выражение лица ее следовало всегда за его чувствами; а между тем все, что она говорила, беспрестанно возвышало его прежние понятия, так как красота ее беспрестанно удивляла его воображение. Часто, взявшись рука с рукою, они молча ходили по волшебному миру; или, сидя у волшебной реки, слушали ее волшебные сказки: или смотрели на синее сияние неба; или, отдыхая на волнистых диванах облачного дворца, старались собрать в определенные слова все рассеянное в их жизни; или, разостлав свое покрывало, девица обращала его в ковер-самолет, и они вместе улетали на воздух, и купались, и плавали среди красивых облаков; или, поднявшись высоко, они отдавались на волю случайного ветра и неслись быстро по беспредельному пространству и уносились, куда взор не дойдет, куда мысль не достигнет, и летели, и летели так, что дух замирал…
Но положение Сирии беспрестанно становилось хуже, и тем опаснее, что в целой Азии совершились тогда страшные перевороты. Древние грады рушились; огромные царства колебались и падали; новые возникали насильственно; народы двигались с мест своих; неизвестные племена набегали неизвестно откуда; пределов не стало между государствами; никто не верил завтрашнему дню; каждый дрожал за текущую минуту; один Нурредин не заботился ни о чем. Внутренние неустройства со всех сторон открыли Сирию внешним врагам; одна область отпадала за другою, и уже самые близорукие умы начинали предсказывать ей близкую погибель.
«Девица! — сказал однажды Нурредин девице Музыке, — поцелуй меня!»
«Я не могу, — отвечала девица, — если я поцелую тебя, то лишусь всего отличия моей прелести и красотой своей сравняюсь с обыкновенными красавицами подлунной земли. Есть, однако, средство исполнить твое желание, не теряя красоты моей… оно зависит от тебя… послушай: если ты любишь меня, отдай мне перстень свой; блестя на моей руке, он уничтожит вредное действие твоего поцелуя».
«Но как же без перстня приду я к тебе?»
«Как ты теперь видишь мою землю в этом перстне, так я тогда увижу в нем твою землю; как ты теперь приходишь ко мне, так и я приду к тебе», — сказала девица Музыка, и, одной рукой снимая перстень с руки Нурредина, она обнимала его другою. И в то мгновение, как уста ее коснулись уст Нуррединовых, а перстень с его руки перешел на руки девицы, в то мгновение, продолжавшееся, может быть, не более одной минуты, новый мир вдруг исчез вместе с девицей, и Нурредин, еще усталый от восторга, очутился один на мягком диване своего дворца.
Долго ждал он обещанного прихода девицы Музыки; но в этот день она не пришла; ни через два, ни через месяц, ни через год. Напрасно рассылал он гонцов во все концы света искать араратского отшельника; уже и последний из них возвратился без успеха. Напрасно истощал он свои сокровища, скупая отовсюду круглые опалы; ни в одном из них не нашел он звезды своей.
«Для каждого человека есть одна звезда, — говорили ему волхвы, — ты, государь, потерял свою, другой уже не найти тебе!»
Тоска овладела царем сирийским, и он, конечно, не задумался бы утопить ее в студеных волнах своего златопесчаного Бардинеза, если бы только вместе с жизнию не боялся лишиться и последней тени прежних наслаждений — грустного, темного наслаждения: вспоминать про свое солнышко!