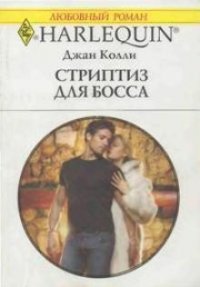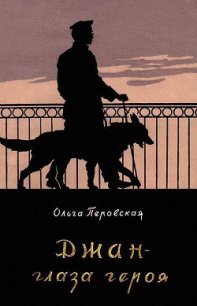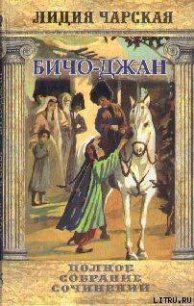Укус ангела - Крусанов Павел Васильевич (бесплатные книги полный формат TXT) 📗
О том, что Сухой Рыбак накануне был до капли выпит изголодавшимся князем Кошкиным, как об очевидном, поминать не стоит.
В силу безвестного закона соответствия в тот миг, когда душа Петруши покинула свою захлебнувшуюся темницу через задний сфинктер, ибо иные, более пригодные для того отверстия были погружены в корыто, а плавать душа Легкоступова не умела, англо-французско-турецкий десант высадился на Кипре. Россия владела мандатом на Кипр, выданным Лигой наций, поэтому понятна холодная ярость Ивана Некитаева, без колебаний объявившего войну супостатам. Одновременно с ракетными и бомбовыми ударами по стратегическим объектам Порты, а также Суэцу, Бизерте и Гибралтару, были развёрнуты Закавказский и Малоазийский фронты, высажен морской и воздушный десант в Порт-Саиде, а войска под командованием генерала Барбовича перешли границу размякшей в неге Австрии, давно потерявшей свой меч и сохранившей лишь драгоценные ножны.
Глава 15
Псы Гекаты
(седьмой год после Воцарения)
Продолжать смеяться легче, чем окончить смех.
С недавних пор за Некитаевым по пятам следовала радуга, оставляя на земле семипалые следы, заметные сверху птицам. Она и теперь стояла над Алупкой, ровнёхонько над остробашенным Воронцовским дворцом, где на сегодня государь назначил заседание Имперского Совета. Давно уже без отдыха и перемирий белый свет терзала Великая война — эту канитель следовало кончать. Сверхоружие, которым державы пугали друг друга в мирные времена, было использовано в первые же недели вселенской битвы, однако оно, произведя нещадные разрушения и отравив землю с водами, вопреки ожиданиям, оказалось на удивление малоэффективным. Судьба победы, как и во все времена, по-прежнему решалась на поле боя солдатами и их генералами; ничто не изменилось, полки воевали по старинке — штыками, порохом и заклятиями, — так воевали, что за семь лет устали не только люди и страны, но даже времена года и сама земля, всё чаще впадавшая в дрожь, словно савраска, которая гонит со шкуры надоедливых мух.
На дворе ещё стоял апрель, Вербное воскресенье, однако ажурный Воронцовский дворец утопал в розах, а на абрикосовых деревьях уже завязывались плоды. Гвардейский караул на Львиной террасе недвижимо застыл перед членами Совета, входившими в мавританский портал. Тут же на ступенях, лениво помаргивая и не обращая никакого внимания на свою мраморную родню, возлежал круглоухий крапчатый пардус. В отсутствие начальства зверь подвергался со стороны гвардейцев особого рода издевательствам — его называли Нестором и встречали воинскими приветствиями, подобающими его хозяину. Иван знал об этих проказах, ибо ему полагалось знать всё, что творится в пределах его державы, однако он не был Свинобоем и смотрел на гвардейские забавы снисходительно — государь ценил отвагу не только на поле боя, но и в остроумии. Он вообще ценил мир живым, способным на озорство и дурачество, отнюдь не желая уподобляться медсестре, которая покоит больного, но при этом не находит минуты, чтобы взглянуть на градусник у него под мышкой, хотя тот давно уже показывает комнатную температуру.
Члены Имперского Совета сошлись в библиотеке, куда вслед за ними в конце концов забрёл и пардус, по-хозяйски оседлавший ковровую оттоманку. Граф и светлейший князь Воронцов собрал эту «либерию» в бытность свою командиром русского оккупационного отряда, занимавшего Францию с 1815 года, а также на посту генерал-губернатора Новороссии и бессарабского наместника. Здесь хранились таблички, исписанные бустрофедоном, папирусные свитки, византийские и арабские рукописи, венецианские инкунабулы и множество иных уников и раритетов, но прибывшим было не до книгочейных услад — увы, хватало поражений и не доставало величия побед, чтобы позволять себе отвлечения и, вместе с тем, рассчитывать на снисхождение императора. В нише, на резной подставке ясеневого дерева, о котором, пока оно шумело листьями, в родных местах Некитаева ходила молва, будто ночами оно бродит по кладбищу и давит корнями подгулявших ярыжек, стоял пузырь аквариума с проворной серебряной уклейкой внутри. Лет пять уже Иван повсюду возил с собой эту рыбу, независимо от того, отправлялся ли он на фронт, в самое пекло, или триумфатором въезжал в ликующий Петербург.
Солнце, осыпая цвета с радуги, уже на осьмушку скрылось в море, но электричество не зажигали: в библиотеке, заправленные в бронзовые шандалы и мнимо приумноженные огромным каминным зеркалом, горели два десятка свечей — государь любил горячий запах воска. Члены Совета сидели за овальным столом и приглушённо говорили о пустяках — вести деловые речи в отсутствие императора, главного радетеля о государственном благе, они почитали неприличным.
— Представьте, — вещал Барбович братьям Шереметевым, — наша гуманная комендатура в Мюнхене издала для граждан инструкцию, где даёт такой совет: когда вас насилуют или убивают в тёмном подъезде, звать на помощь следует криком «пожар!», потому что, если обыватель услышит «караул! убивают!», он сдрейфит и нос из-за двери не высунит, услышав же «пожар! пожар!», он непременно объявится, а тут как раз убивают…
Дубовая резная дверь вела во внутренние покои дворца; по обе стороны от неё, затянутые в фисташковые мундиры Воинов Блеска, застыли два гвардейца с красивыми, мужественными лицами, в половине случаев присущими не столько людям добропорядочным, сколько беспутным бестиям и головорезам. Государь заставлял себя ждать.
Никто не знал, что задерживает его — распорядок жизни императора являлся предметом государственной тайны. Ходили слухи, будто он держит в любовницах собственную сестру, мужа которой, своего ближайшего сподручника, казнил в первый день Великой войны по нелепому обвинению в лжесвидетельстве, повлёкшем за собой человеческие жертвы, — говорили, что именно в её спальне он принимает все свои исторические решения. Говорили также, что он, подобно великому Александру, устраивает грандиозные оргии с толпами распутниц и приставленными к ним евнухами, которые сами привыкли испытывать женскую долю. Говорили ещё, будто в этих неистовых вакханалиях принимают участие шуты и уродцы, один из которых — князь Кошкин — способен пожирать людей живьём, как огромная тля. Но, скорее всего, это были пустые домыслы стоиков, полагающих, что всякий баловень судьбы непременно лишается своих природных достоинств, ибо удача и слава дурно влияют даже на лучшего из людей, чьи непоколебимые добродетели ни у кого не вызывают сомнений.
Помимо слухов о досуге, ходили толки и о необыкновенных личных свойствах императора. Рассказывали, будто он мог не спать по семнадцать суток, а когда засыпал, то сон его был краток и так крепок, что на нём можно было молотком колоть орехи, — но даже при таком крепком сне он не терял бдительности и продолжал отдавать приказы о штурмах и казнях, не открывая глаз, ибо видел сквозь веки, как рысь видит сквозь стену. Говорили, будто в груди Ивана пылает необычайный жар, так что счастливцы, удостоившиеся его приветливых объятий, ощущают нестерпимое жжение и впоследствии находят на своём теле ожоги. И уж совсем небылицы плели про его слюну — словно бы она имеет свойство делать солёное сладким, а сладкое острым, так что в кофе он кладёт соль, а пельмени, вместо уксуса и перца, приправляет шоколадной крошкой и сиропом. Что делать, никакие плоды просвещения не в силах отбить у людей вкус к диковинному — жажда необычайного, ожидание чуда есть непременное правило жизненной игры, соблюдение которого, в свой черёд, тоже есть непременное правило игры.
Наконец дубовая дверь распахнулась и два гвардейца одновременно — целое представление — отсалютовали государю. Император поднятием руки поприветствовал собравшихся; члены Совета отдали ему молчаливый поклон. Иван был в полевой гвардейской форме, как всегда моложавый и подтянутый, только сейчас вокруг его глаз лежали густые тени. Сев на своё кресло, слева от которого было место государственного канцлера Бадняка, а справа — фельдмаршала Барбовича, он полуприкрыл веки, так что теперь никто не мог поймать его взгляд и все разом ощутили себя в ловушке вопроса: кто же они — те, кого изучают, или те, кто изучает? и кем сейчас быть предпочтительней? Неизменно сопровождавший государя адъютант, мундир которого не по уставу был облеплен пухом (страсть Прохора к голубям поощрялась императором), застыл позади его кресла. Пора было начинать.