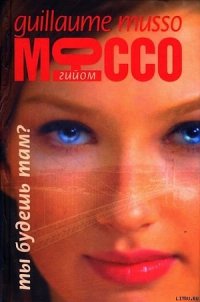Первый отряд. Истина - Старобинец Анна Альфредовна (список книг txt) 📗
Я послушно извлекаю из кармана мобильник и ставлю его в режим съемки. Я нажимаю на маленькую кнопочку сбоку — и ее круглый усталый блин застывает на экране моего телефона. «Сохранить в памяти SIM?». Сохранить. Всегда лучше сохранить в памяти лицо человека, который дал тебе жизнь.
— У вас нет фотоаппарата, — говорит она равнодушно.
— Вы моя мать, — говорю я ей и убираю мобильник в карман.
Она тускло смотрит на меня из своего национального кокона. Выражение ее лица не меняется. Из-под красно-синего колпака на брови и переносицу начинают сочиться крупные капли пота.
— Вы из газеты? — спрашивает она тупо и ровно. Так, будто весь предыдущий наш разговор был черновой репетицией, и я перепутала слова своей роли, и если мы теперь отмотаем назад и начнем все с начала, я смогу исправить ошибку.
— Я ваша дочь. Меня зовут Ника Данилова.
— Есть у меня дочери, — она прикрывает глаза. — Три. И все они сейчас в доме. А четвертой у меня никогда не было. С чего вы взяли, что я ваша мать?
— У нас одинаковая фамилия, — говорю я.
— Ну и что? Здесь, в поселке Ловозеро, треть населения с такой фамилией. А в России, может быть, четверть…
Она опять почти засыпает. Ей скучно.
— Я навела справки. В девяносто пятом году вы отказались от ребенка…
— Я ни от кого не отказывалась. — Она вытирает стекающий по лицу пот рукавом национального костюма саами.
— У меня на спине много родинок. В форме созвездий. У вашей дочери были такие?
— У моих дочерей чистые спины.
Ни капли сомнения. Никакого волнения. Просто ей жарко. Может быть, она и вправду не врет. Может быть, это не она меня родила, предала… Я теперь не узнаю. Теперь никто не поможет, никто не вытянет из их гнилого болота вранья. Пусто, пусто у меня там внутри… Я сгибаюсь, обнимаю себя руками и кашляю.
— Вы простудились?
— Я утонула.
Она делает шаг назад. Застывает. Впервые за всю беседу сквозь невыразительную гибкую маску ее лица пытается пробиться наружу какое-то чувство. Когда оно наконец высвобождается и таращится на меня через схематично очерченные косметическим карандашом глазные проемы, я не отвожу глаз. Я узнаю его. Страх.
— Ты пришла забрать мою душу в Туотилмби? Ты пришла из Туотилмби, с той стороны? — шепчет она.
Я не успеваю ответить. Она вздрагивает — кто-то легонько подталкивает ее сзади.
— После «работы много, пасу оленей, и только тундра видит мои слезы» что там дальше, мам? — из квартиры на лестничную клетку протискивается девушка с лицом, которое я обычно вижу в зеркале, но при этом с волосами гораздо темнее моих, грудью гораздо больше моей и ногами гораздо толще моих. На вид ей лет двадцать.
— Здрасьте, — говорит девушка в мою сторону. В ее зрачках, в тусклой и темной их глубине, уже свернулись бесцветные эмбрионы будущей скуки.
Солистка музыкально-театрального коллектива «Лопь лань», предположительно моя мать, стоит неподвижно и тихо. По-настоящему испуганный человек не кричит и не убегает. По-настоящему испуганный человек — как парализованное страхом животное. Он прикидывается мертвым, чтобы хищник ушел.
Я никуда не ухожу. Воспользовавшись паузой, я спрашиваю ее дочь:
— У вас в детстве была сестра?
Она старше меня на несколько лет. Если она моя сестра, если меня отдали в три года, она должна меня помнить.
— У меня и сейчас две сестры. — Она выглядит удивленной.
— А еще одна? Ей должно было быть три года?
— А вы кто? — спрашивает девушка с неприязнью.
— Не тронь ее! — включается внезапно «Лопь лань». — На ней нет вины! На Галочке нету вины! Я одна принимала решение! Оставь ее душу, возьми только мою.
Любящая мать. Жертвенная мать. И Галочка… Что-то вроде ревности заставляет меня сказать Галочке:
— Иди в дом.
Что-то вроде мстительности заставляет меня прикоснуться к щеке моей матери, когда мы остаемся вдвоем, и почувствовать, как ее кожа каменеет от страха.
На смену ревности и мстительности тут же приходит брезгливость. Пот на ее лице липкий и теплый, он пахнет увядшей стареющей бабой.
— Мне не нужна твоя душа, мама, — говорю я и вытираю влажные пальцы о джинсы. — Кроме того, я пока еще не умерла. Я утонула… Но меня откачали. Если тебе вдруг интересно.
Ей не интересно. В ее глазах снова пусто. Она спрашивает:
— Зачем ты пришла?
Она говорит:
— Ты была одержима духами. У нас не было выбора.
Она говорит:
— У нас даже нет денег, чего ты хочешь?
— Дом, — говорю я.
— Что, право собственности? Ответственный квартиросъемщик не я. Квартира приватизирована. У тебя нету никаких прав на…
— Мне хотелось бы иметь дом. Место, куда приходишь, когда тебе плохо. Когда некуда больше идти. Право собственности меня не интересует.
Я снова кашляю. Остаточные явления. Когда твои легкие пропитываются водой и становятся похожи на печень коровы, когда один раз ты захлебываешься водой из бассейна в бассейне, а второй раз ею же, но уже на больничной койке, когда вода сочится внутри тебя, когда ты проходишь через клиническую смерть, «вторичное утопление», тяжелый отек легких и двухстороннюю пневмонию — тогда остаточные явления кажутся тебе чем-то неважным.
Но моей матери так не кажется.
— У тебя плохой кашель, — говорит она мне. — Ты сильно больна.
— Я могу зайти внутрь?
Она молча отодвигается, освобождая мне путь.
О, сдержанность северных женщин. Я молча вхожу.
— Но мы не сможем оставить тебя, — говорит она, шаря в коробке для обуви в поисках тапок. — Мы не сможем стать тебе домом.
Я прохожу, как привидение, по двум маленьким захламленным комнатам, по маленькой, как детский гроб, кухне. Я смотрю на оленьи рога, висящие на стене. На отца, который тоже предал меня, а потом, в наказание или просто подчиняясь законам генетики, превратился в сморщенного пьяного гнома. Я смотрю на большегрудую поникшую Галочку, и еще на двух сестер, чьих имен я не знаю. Я смотрю на пятнистую кошку с гноящимися глазами. Они застыли. Они онемели. Но если бы они могли говорить, они спросили бы: «Зачем ты пришла?»
— Зачем она пришла? — спрашивает мой отец мою мать.
У него лицо человека, который способен застрелить на охоте медведя, даже если он достаточно пьян, но не способен вспомнить даты рождения своих детей, даже если он достаточно трезв.
— Спроси ее сам, — говорит мать.
Он молча пялится на меня. Биологический отец. Мой создатель. Я смотрю в его тупые глаза. И мне хочется верить, что генетика — продажная девка, а не точная, как оптический прицел, наука.
Я говорю:
— Мне нужен адрес нойда. Того, который смотрел меня, прежде чем вы сдали меня в детский дом.
— Ты водила ее к шаману? — изумляется он.
— Да, — говорит она ему.
— Нет, — говорит она мне. — Я не дам тебе его адрес. У тебя внутри равк, и ему нечего делать в доме у нойда.
…Откуда-то из глубин памяти, может быть, генетической, а может, и какой-то более оперативной, ко мне приходит воспоминание о том, что такое равк. На языке саами равк — это умерший злой нойд, шаман, который стал упырем или просто злым духом. Восставшего из могилы равка следует повторно захоронить лицом вниз, чтобы он больше никогда не нашел выход из гроба. Иначе он может вселиться в чужое тело.
Я не знаю, был ли внутри меня равк. Сомневаюсь. В любом случае, сейчас внутри меня пусто.
— Внутри меня теперь нет никого, — отвечаю я. — Но это не важно. Ты должна выполнить мою просьбу в любом случае.
— С чего это? — В ее голосе звучит безнадежность. Она знает, что я знаю. И что я ей сейчас скажу.