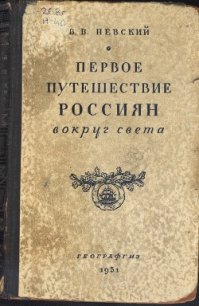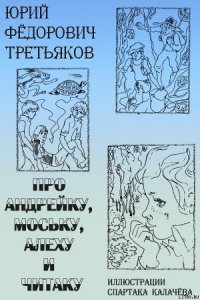Мнемосина (СИ) - Дьяченко Наталья (книги полностью .txt) 📗
— Но ты же не веришь в результат лечения!
— Неужели твоя вера столь слаба, что ее не достанет на двоих? Я не готов потерять еще одного друга.
Содержание их беседы показалось мне неясным, но вникать не хотелось. Довольно было уже того, что братья вновь разговаривали. Правда, радоваться за них я не мог. Точно ледяная ладонь сдавила мое сердце, которое под коркой льда закаменело, утратив способность чувствовать. Мысли текли вяло, отмечая события, но не откликаясь эмоциями. Из-за этого мир вокруг, невзирая на ясную погоду, сделался тусклым, как бывает во время солнечного затмения. Мне думалось, будто война закалила мою душу к потерям, но оказалось, я ошибался.
Когда я уже собрался было садиться в экипаж вослед за Янусей и Пульхерией Андреевной, меня окликнул Лизандр с просьбой повременить.
— Поезжайте, мы подвезем Михаила до Небесного чертога, — сказал он Звездочадским.
И хотя им не к кому было торопиться, мать и дочь покорно последовали его воле. Смерть Габриэля сделала их безучастными к происходящему, они существовали внутри себя, в воспоминаниях, позволяя другим руководствовать своими внешними действиями. Вслед за черной коляской Звездочадских тронулась мышастая лошадка князя, увлекая за собой богатый экипаж, в привычной тесноте отправились прочь граф Солоцкий с дочерьми, Гар, продолжая что-то горячо доказывать, сел к Арику, жестом отсылая своего кучера.
Смолк стук колес, кладбище потихоньку пустело. Мы с Лизандром стояли возле ограды, провожая взглядом отъезжавших. Ветви ракит над нами плакали о вере и вечности; солнце взбиралось к зениту, обливая горячим золотом замшелые камни надгробий, покосившиеся и новые кресты, обвивавшие ограду плети девичьего винограда и неизменную в любой части света кладбищенскую крапиву. Легкий ветерок ерошил белокурые волосы пиита, трепал полы его одежды. Лизандр выглядел потерянным. В черном сюртуке строго кроя, без каблуков, без кудрей он казался совсем земным — невысокий полный молодой человек с мягкими чертами лица и мечтательным взором.
— Вы вскоре уедете? — спросил он напрямик.
— Право, теперь не знаю. Боюсь, в нынешних обстоятельствах мой поспешный отъезд будет неуместен — оставить Январу Петровну и ее матушку наедине с бедой еще большая трусость, чем побег с поля боя. И, кроме того, я обещал Габриэлю поддержать его родных.
Я не стал рассказывать Лизандру о своих трудностях с врачебной комиссией, позволявших мне продлить пребывание в Мнемотеррии.
— Могу ли я попросить дать мне знать, когда вы определитесь насчет даты отъезда? Мне хотелось бы ехать с вами. Я ничего не видел в жизни, кроме Мнемотеррии, и больше не хочу откладывать отъезд на потом, ведь потом так легко обращается в никогда. Вы ведь не сочтете за труд помочь мне освоиться за стеной или, быть может, сведете меня с людьми, которые смогут побыть моими проводниками?
Мне подумалось, что действительная причина его отъезда была не той, какую он назвал теперь, а той, невольным свидетелем которой я стал на балу у Магнатского, но это ничего не меняло. Лизандр хотел ехать со мной, и мне ничего не стоило оказать ему такую услугу.
Я обещал, равно как обещал сохранить содержание разговора между нами.
— Не то меня начнут наперебой отговаривать, а я не смогу отказать, и придется оставаться, чего мне совершенно не хочется, — виновато улыбнулся Лизандр.
Вечером я сел привести в порядок записи в своем дневнике, который забросил из-за последних событий. Я излагал неспешно и обстоятельно, и с каждым написанным словом боль из моей души точно перетекала в чернила, а затем плотно оседала на листы бумаги. Мерные движения руки, скрип пера, сторонний взгляд уже не участника событий, а простого читателя позволили мне примириться с произошедшим. В нашем с Габриэлем знакомстве было много светлых моментов, и доведись мне прожить жизнь повторно, я ни за что не отказался бы от этой дружбы, несмотря на печальный ее конец.
Я принялся перелистывать дневник назад, желая лучше вспомнить эти моменты, и обнаружил крайне неприятную для себя вещь: многие события, которые мы пережили вместе со Звездочадским, сохранились лишь на бумаге, словно смерть друга вымарала их из моей головы. При попытках воскресить в памяти написанное, меня настигала головная боль, нараставшая по мере усилий. Увы, мое беспамятство быстро прогрессировало, и я решительно не знал, что с ним делать. Возможно, армейские врачи смогли бы определить его причину либо замедлить ход, но я не мог уехать теперь, бросив в горе мать и сестру Габриэля. И дело было не в данной клятве, и даже не в любви к Янусе, а в иных, более глубинных мотивах, что выделяют человека из мира бессловесных тварей.
На следующий после похорон день приехал душеприказчик. Был он по-беличьи шустрый, с темными живыми глазами, с пышной, поровну седой и огненно-рыжей шевелюрой, которую он зачесывал к затылку, открывая круглое, точно луна, лицо, рассеченное узким клинышком бороды. Сюртук его выглядел добротным, хотя и не новым, в вырезе жилета белела накрахмаленная манишка. Слуга проводил гостя в кабинет, позвал хозяек имения. Я не участвовал в разговоре, но был убежден в благополучном его исходе. Габриэль обращался с матушкой и сестрой с неизменной заботой, добродушно подтрунивал над их любовью украшать быт цветами и рукоделием, но при этом полнейшей беспомощностью в делах управления поместьем. Я не сомневался, что Ночная Тень позаботился, чтобы после его смерти родные ни в чем не испытывали нужны. Однако визит затягивался, и меня начало одолевать беспокойство. Когда же, наконец, двери кабинета отворились, и душеприказчик вышел оттуда один, я понял, что мое беспокойство было небезосновательным.
Пульхерия Андреевна лежала на низкой кушетке, стискивая в руке флакончик с нюхательными солями. Подле нее на коленях стояла Януся, прижимая матушкину ладонь к своей щеке и взволнованно глядя ей в лицо.
— Что произошло? — спросил я.
Сестра Звездочадского вскинула на меня глаза. Медленно, словно сквозь сон, словно сама не веря, что ей приходится это говорить, она отвечала:
— Габриэль не успел рассчитаться с батюшкиными кредиторами. Небесный чертог придется продать в уплату долгов. Мы полностью лишены средств к существованию.
Я не поверил ей.
— Ваш гость… вы давно его знаете?
— Господин Комаров исполнял батюшкин посмертный наказ. Коли papa и брат доверялись ему, то и у нас нет причин сомневаться.
— Вы уверены, что поняли его правильно?
— Бумаги на столе, — указала взглядом Януся. — Прочтите сами.
Я схватил со стола бювар из тисненой кожи, вывалил оттуда все документы разом и принялся спешно перелистывать. Расписки, расписки, обязательства, визитки, просто листы бумаги, заполненные четким почерком Звездочадского: «Одолжил у А.П. две сотни идеалов. Уговорились рассчитаться пятого дня июля. Жоржу и Жоре отдать по полторы тысячи каждому. Управляющему должно семь сотен за труды и сверху пять чаяний на водку, коли шалить не будет. Тысячу в счет батюшкиного долга — Н.Т». Я просматривал их опять и опять, надеясь отыскать хоть что-то, опровергающее страшную новость. Но с каждой последующей записью сомнения таяли как дым.
Точно в оцепенении, сестра Звездочадского поднялась с колен, приблизилась ко мне.
— Мне страшно, Микаэль, — прошептала она. — Как мы станем жить? Кто приютит нас?
Януся обхватила себя руками, тонкие пальцы судорожно, до белизны впились в черную ткань. Губы девушки дрожали.
— Я не оставлю вас в беде. Вместе мы что-нибудь, да придумаем, — попытался я ее утешить, но Януся будто не слышала меня.
Страшная мысль о бедности завладела всем ее существом. Она прикрыла рот тыльной стороной ладони, закусила костяшки пальцев и вдруг сорвалась в слезы, давясь собственным дыханием, рвано всхлипывая, содрогаясь всем телом. При виде такого отчаянья мое сердце разрывалось от боли. Я привлек Янусю к груди, гладил ее вздрагивающие лопатки, мягкие волосы, точно мех чуткого, испуганного зверька. Затем армейская привычка действовать при любых обстоятельствах одержала верх.