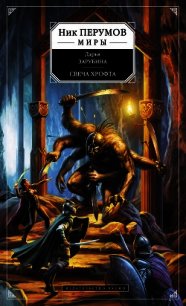Ведьма - Зарубина Дарья (книга регистрации TXT) 📗
— Матушка-Землица, возьми травницу Агнешку.
Послушные новой хозяйке зеленые искорки зароились, набирая силу, и тотчас словно тысячи крошечных молний вонзились в каждую клеточку, разрывая плоть, отделяя душу от измученного тела. Белая река хлынула под веки.
И боль отступила. Стало хорошо. Так спокойно, словно и не вырастала травница Агнешка, словно осталась маленькой девочкой. Будто приснилась ей жизнь, как страшный сон. И сейчас матушка разбудит ее поцелуем, возьмет на руки, утешит, утрет слезы.
Агнешка улыбнулась во сне, радуясь.
А Земля благодарно тянула из нее белые искры:
— Принимаю душу твою, травница Агнешка…
— Иду, матушка, — хотела шепнуть девушка. — Иду…
Казалось, вот-вот прикоснутся к горячему лбу умирающей теплые материнские губы.
— Здравствуй, моя милая…
Агнешка вся подалась вперед, желая нырнуть в белую реку, да только вместо теплого касания светлой влаги почувствовала девушка, как что-то холодное и сырое ткнулось ей в щеку, потом в шею.
Река отхлынула, сияние померкло. Агнешка умоляюще потянулась к нему. Но тотчас почувствовала новое прикосновение ледяной сырости. Кто-то жарко засопел ей в лицо, и что-то широкое, гадко шершавое коснулось век.
Сияние растаяло, оставив лишь темную пустоту внутри. Темнота заскулила и навалилась на грудь тяжелыми лапами.
Агнешка с трудом разлепила веки.
Широкомордый лобастый пес, в вечернем сумраке показавшийся громадным, переступил лапами у нее на груди, раскрыл жаркую пасть и снова лизнул девушку в щеку.
— Что ж ты наделал…
Глава 44
— …проходимец, небово отродье! — Агата не находила себе места.
Эльжбета плакала, закрыв белыми ручками лицо.
— Убегу я, — всхлипнула она. — К Тадеку убегу. Не станет он меня, как простую девку, прочь посылать…
— Разбегалась, — бросила дочери Агата, гневно сведя брови. — Мужняя жена. Что хочет он, то с тобой и сделает. И ни я, ни отец тебе уже не помощь. Раньше бегать надо было, до венца.
— Как есть убегу, — запричитала Элька. — Он и в три дня не заметит. На меня и не глядит, с самой свадебной ночи и не бывал.
— А тебе будто того охота? — насмешливо спросила Агата.
Злилась она на Эльку. Рано Казимеж отдал девку замуж. Ничего в голове нет. Привыкла держаться за мамкину юбку да за папкино кольцо. Муж ей, видишь ли, не угодил. В ножки не упал.
Думала Агата дочку в новый дом проводить, погостить до осени и вернуться. А тут вишь, как оно оборотилось. Уж какое домой собираться, когда дурища Элька бежать задумала, отца-мать позорить. Чуть почувствует князь нехорошее, в мысли ей глянет… Запрет до родов. А после?
Не знала Агата, что и думать. Но не такая стать была у княгини Бялого, чтоб по углам плакать.
— С тобой останусь, — резко бросила она дочери. — Надумаешь бежать, сама за косу приволоку и дома привяжу.
Ждала княгиня, что дочка снова бросится в слезы. Но не тут-то было.
— Ненавижу тебя! — крикнула Эльжбета, сжимая в кулачки белые ручки. — Мать, а хуже последней мачехи!
Агата опешила, отступила.
— Ты во всем виновата! — взвизгнула Элька, вытирая рукавом слезы. — Батюшка-князь тебя завсегда слушал. Сказала бы ты ему, что не невеста я Черному Владу, отдал бы он меня за Тадека. Ведь он обещал…
«Ах, паршивка, — только и пронеслось в голове у Агаты, — паскуда неблагодарная… Растила, ласкала, косы золотые расчесывала…»
Сердце сжалось так, что в голове помутилось, поплыло, посерело. А за болью явилась ярость. Та, что помогла юной Агате, княгине Бяломястовской, двадцать лет назад против жадной своры мужних товарищей да советчиков выстоять, та, что подсказала, как мужа в узде держать. Не Агата — страшная, лихая ярость схватила Эльку за толстую золотую косу и поволокла по выскобленному полу к двери.
— Я виновата! Так убирайся, беги! В лесу ночуй! К отцу беги или к сопляку своему дальнегатчинскому!
Заблажила перепуганная Элька, словно тараканы выскочили изо всех углов девки, остановились в страхе: к хозяйке бы бежать, подымать, под белы ручки в покои увести — да уж больно матушка Агата гневна, возьмется за колечко, так и с жизнью недолго проститься.
— Что ж ты делаешь, матушка? — Нянька, неловко припадая на больную ногу, бросилась к ним, упала на пол, под ноги Агате, обхватила Эльку за трясущиеся плечи.
Схлынула ярость, ушла как не бывало. И Агата в недоумении уставилась на свою руку, сжимающую желтую Элькину косу, на опухшее от слез, подурневшее лицо дочери, на ее крупное, хоть еще не располневшее в ожидании грядущего материнства тело и пустые, словно бы погасшие глаза. Разжала пальцы.
Девки-мертвячки, чуткие к причудам барского нрава, бросились хлопотать вокруг княгини. Нянька сверкнула глазами и промолчала. Умна была старуха.
Агата отвернулась и зашагала прочь. Мальчик, прислуживавший при кухне, выскочил было перед ней. Княгиня замахнулась на паренька. Не ударила.
Глава 45
— Пшел! Небова мразь!
Не первый день на свете живешь, должен бы уж чуять, когда не стоит истиннорожденным на дороге попадаться.
Но пес, хоть и шарахнулся от копыт лошади, быстро опомнился и с заливистым лаем понесся следом.
Он это, он — Иларий. Живой, хоть и сердитый. Сколько же Прошка искал веселого черноголового мануса! Уж и не чаял найти. Шел по едва уловимому следу. Сколько дней во рту ни сладкой говяжьей косточки, ни утиного крылышка. Мыши-полевки да жуки, будь они неладны.
— Ила-арий! — радостно трепетала собачья душа. Заливисто лая и повизгивая от счастья, Проходимец бросился вслед за Вражко в надежде, что его седок наконец узнает верного друга, княжьего гончака Проху. Но Иларий ударил вороного и снова крикнул:
— Пшел!
Прошка напряг все силы, все еще надеясь догнать всадника, рванул наперерез по высокой траве. Запутался в толстых, сочных стеблях, рухнул и заскулил от боли и отчаяния. Покуда выпутаешься, покуда след возьмешь — ускачет Иларий.
Проха поднялся на ноги, приготовился бежать, искать, спасать. И остановился как вкопанный. Зарычал, вздыбив шерсть.
В паре шагов от него, по грудь в густой траве, стоял другой пес. Белый как лунь, громадный, как новорожденный телок, и пушистый, как соболь. Проха грозно оскалился, надеясь нагнать страху на нежданного противника, но чужак не торопился приближаться. Он стоял неподвижно, словно и не живой, и спокойно рассматривал тяжело дышавшего гончака внимательными семицветными глазами.
Проха снова зарычал.
Белый пес двинулся к нему, слегка склонив голову набок. И Проходимец почувствовал, как лапы и веки наливаются тяжестью. Не в силах бороться с ней, он опустился на траву. И Белый прилег рядом. Положил лапу на широкий лоб пса.
И Прошка увидел. Едва ли вспомнил бы он, что показал ему странный Белый пес. Метались в этом чудесном сне черные и светлые тени, пахло кровью. А потом повеяло смертью. Не холодом, как от искорок, что сыпал с кольца хозяин или сбрасывал манус с холеных пальцев. Повеяло жирной землей и увядающей травой. Землица-матушка принимала не мертвеца — живого. Пила жизнь из еще бьющегося сердца.
От этой мысли словно лопнуло что-то внутри у Прохи, разлилось горячим под черепом. Не успел заметить Прошка, как Белый пес исчез. Но в надвигающихся сумерках вдруг что-то позвало Проху, заставило со всех ног броситься назад, туда, откуда уносил вороной княжьего мануса.
Не зря надеялась Безносая на молодого гончака. Успел Проходимка, вырвал у Землицы то, что само ей отдавалось, само просилось, само от жизни отказывалось. Лизнул умирающую в закрытые глаза, раз, другой, жадно вдыхая знакомый запах. И как он раньше думал, что она — враг? Враги злые, а у нее щеки соленые…
Проходимец снова коснулся шершавым языком бледного лица, обведенных темными кругами глаз. И глаза открылись. Еще мгновение отражались в них счастье и покой, а потом все вернулось — боль, страх, ненависть… С укором смотрели на Проху серые, как осеннее небо, глаза травницы.