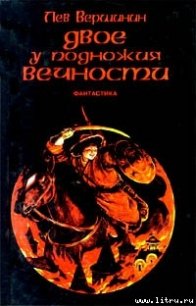У подножия вечности - Вершинин Лев Рэмович (читаем бесплатно книги полностью txt) 📗
Громадным вепрем кидается воевода вперед, и меч, прорубая снежную кисею, пополам разрезает ближнего поганца… рука второго отлетает прочь, и степняк бежит искать ее, истошно вопя, а прямое лезвие взметается опять, но третий татарин ловко уходит от смерти, присев и отпрыгнув… ан – врешь! не выйдет! воевода посылает дедовский клинок в круговой разгон, и Тохта, шипя сквозь плотно стиснутые зубы, от бедра до груди просекает толстый тулуп, наслаждаясь вспышкой мучительной боли в глазах сивобородого уруса… получай, свинья! тебе не жить, ты ответишь за моих черигов!.. и Борис Микулич, глядя в оскаленную татарскую харю, вдруг понимает, что не ранен, а убит, что эти мгновения муки – последние в жизни… впервые его одолели хитрым ударом… и не удар вовсе виной, просто стар стал я, просто тяжко уже, невмоготу, и земля дрожит… а татарин скалится, довольный; так нет же! и, кинувшись вперед, воевода перехватывает запястье, не позволив добить себя. Меча уже нет, утонул в снежной наверти, да и не поднять, даже если б был, и плевать! всем тяжелым телом падает Борис Микулич на поганого, подминая кряжистого степняка под себя… пальцы сами находят горло, впиваются и давят мертвой хваткой, а перед глазами вспыхивает белый цветок; больно! больно! боль… – и ничего уже не видит Борис Микулич, а придушенный Тохта, давясь кровавой пеной, все пыряет и пыряет ножом обмякшее тело, пробивая дырки в тулупе и не веря еще, что остался жив; чериги, разбежавшиеся по сторонам, помогают встать, взгляды их полны восторга, и кипчак сознает, что не стоит проклинать уруса, напротив, его следовало бы похвалить за то, что сумел наконец до дна напоить черигов верой в джаун-у-нояна… и, прихрамывая на ушибленную ногу, Тохта снова ныряет в пургу, ведя за собой черигов, спешит снова сражаться, чтобы Ульджай после битвы оценил своего кипчака!
…а вокруг полыхало и звенело, и сквозь воронки снега и ветра, мимо пылающих изб, через груды тел шел Ульджай, повинуясь властной руке отца. Крепко сжимая ладонь, вел его никому не видимый Саин-бахши, и те, кто убивал и умирал, не смотрели на ноян-у-нояна; ни о чем не думалось Ульджаю, ему было спокойно и хорошо, и отцовская рука, спасшая трижды за день, была надежнее всего на свете, даже коня и лука, без которых нет степняка… И по вспаханным саблями проулкам вышел Ульджай к странному месту, куда не докатилась резня.
Одиноко и нетронуто высился перед ним храм урусов, и было вокруг него пусто и чисто, словно и ветер, и пламя обошли стороной жилище бородатого бога; тряслась под ногами земля, а оно стояло прямо и нерушимо, и крест наверху не ходил ходуном, как крыши иных домов. И удивился Ульджай: взметается над урусским храмом снежный ураган и кидается в бешенстве, но расшибается вдребезги и оседает на землю мягким нетающим черным пеплом.
– Урр-рра! – глухо долетает из вихря визг Тохты.
Отец отпускает ладонь, слегка подталкивает в спину: иди! – и уходит прочь, оставляя Ульджая одного перед гранью пепельного ковра. Совсем один остается ноян-у-ноян, и на миг в сердце впиваются сосущая тоска, и горечь, и боль, но тут же исчезают; нельзя позволять слабости одержать верх!
…верни справедливости силу, – велел отец; нет, он не бросил меня, он рядом, он смотрит и верит; я не обману, родной мой, я выполню все, что угодно тебе…
И Ульджай всего лишь мгновение или два помедлил у края нетающей мглы, а потом вздохнул полной грудью и понял: пора!
Не колеблясь шагнул на мягкий пепел и сквозь подошвы сапог ощутил, как он горяч. Кто-то незримый звал, манил за собой, и он шел, уже не слыша, как вокруг умирает город.
Вот она, впереди – дверь. Совсем уже близко. Пляшут вокруг блики, но почти не достигают ее; лишь совсем немного света доползает до темных досок, и никак не различить, за что взяться.
Шаг. Еще шаг.
Сама собой распахнулась укрытая тенью дверь…
И полыхнуло в глаза Ульджаю черным огнем.
Слово о скрещении путей и конечной сути
…И когда мука заживо разрываемого града перехлестнула наконец край, сама земля содрогнулась, не стерпев многоголосого смертного крика. Обезумев от боли, вздыбилась она и зашлась в судороге, корежа пылающие избы, погребая под грудами крошащихся бревен озверевших людей, не разбираясь в великом гневе своем, кто виновен, кто нет. Заплескались в небе истрепанные лохмотья огня, упали на притихшую в страхе чащобу, и занялись леса. Оглушительно треща, лопались от лютого жара мерзлые вековые стволы, мчалось без пути разбуженное дымом зверье, и, оскорбленная ударами молний, пробившими тяжелые пласты льда, пробудилась от зимнего сна Козька-река, фыркнула возмущенно, качнулась, ломая наледь, и пошла вверх по косогору, набухая неостановимым валом…
Но уже никогда не узнал о том Феодосий. Совсем один стоял он посреди неоглядной пустыни, и, когда слеза промыла на время ослепшие очи, лежала вокруг лишь сплошная каменистая твердь, исчерченная паутиной трещин, и легчайший мелкий песок шуршал под ногами. Ни звука, ни шороха. Лишь рассвет, понемногу занимающийся за горизонтом, чуть подкрашивал неприветливый край в ласковые цвета; голубые и розовые прозрачные тени плясали у самых ног – а ну-ка, поймай! – и воздух звенел, будто после грозы; и было все явным чудом, но в сердце не было страха, ибо знал неведомо откуда: скоро станет понятно…
Повертел головой: куда идти? Пусто повсюду; лишь в той стороне, откуда рассвет, угадалось нечто: то ли холмики, то ли темные бугорки… и еще, почудилось, курится над ними легкий, почти незаметный в перескоках теней дымок…
Туда и держать решил; некуда больше было; решил – и побрел навстречу рассвету. Поначалу медленно, уберегая ноги от мелких злых камешков, норовящих укусить изнеженную сандалиями кожу, но вскоре и побыстрей: ступни все равно тотчас изрезались в кровь, а на боль телесную умел не обращать внимания, полжизни проведя в волосяной клетке. А боль, поняв это, помучила, да и отстала, как уставшая попусту брехать дворовая шавка.
Спустя сотню-другую шагов сделались дальние бугорки побольше, и еще подросли, и вовсе не холмиками песчаными были они, а лодками, неведомо кем и отчего брошенными среди пустыни. А кругом на жердях провисали обветшалые сети, красуясь прорехами, и костер почти угасал. Человек же, сидящий у костерка низко опустив голову, ворошил палочкой притухшие уголья, добывая из серой золы крохотные синеватые лепестки. Грязная, некогда синяя накидка грубой шерсти прикрывала плечи и спину, а из-под ветхой рубахи с обтрепанным разрезом выглядывала мускулистая, почти безволосая грудь.
И не стал он приветствовать подошедшего.
– Идешь? – только и спросил, не подняв лица. – Ну, присядь к костру моему, погрейся. Хватит тебе тепла, хоть и угасает…
Помолчал; потыкал палочкой в самую середку золы.
– А я вот, понимаешь, не дошел…
И когда поднял наконец сидящий у костра глаза, обомлел Феодосий, ибо знал этот непередаваемый взгляд. Только там, на суровых греческих образах, был он исполнен могучей силы и власти, и не было в нем такого всепонимания и готовности прощать; если же и угадывались, то не так явно, словно страшились писатели икон передать кистью то, что угадало сердце.
Когда же откинул сидящий у костра ладонью свисающие до плеч сальные волосы, мелькнуло мгновенно перед глазами: на самом запястье крепкой короткопалой руки, под ладонью, жуткий рубец от гвоздя, похожий на звезду и не заживший еще до конца…
– Не тобою ли зван? – прошептал в смятении Феодосий, и в сказанном прозвучало иное, невысказанное: для чего избран? А тот, у костра, на невысказанное и ответил, ибо слышал сердцем.
– Сам не ведаю, – прозвучало почти неслышно. – Избранным полагал и себя, и что ж? Давно иду; сети сгнили совсем, и лодки рассохлись, и рыбари мои разбрелись кто куда. И нет больше сил не сомневаться…
Выскочил с неба рассветный блик, окружил свалявшиеся волосы золотистым нимбом и тотчас угас, стертый начисто медленным взмахом покалеченной мозолистой ладони. И не смел Феодосий вникнуть в смысл негромких слов, ибо понять и принять означало бы сжечь в бесцветном огне все, во что верил.