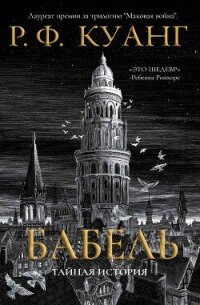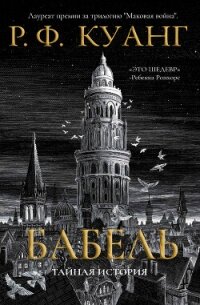Вавилон. Сокрытая история - Куанг Ребекка (мир книг TXT, FB2) 📗
– О нет, не стоит, но мадера подойдет, благодарю.
Наполнив бокал, Робин сел на свободное место.
– Так, значит, ты балабол, – сказал Пенденнис, откинувшись на спинку кресла.
Робин потягивал вино, стараясь перенять манеру Пенденниса. Как можно одновременно быть таким расслабленным и таким элегантным?
– Так нас называют.
– И чем ты там занимаешься? Китайским?
– Мандаринским, – ответил Робин. – Хотя я также изучаю японский и немного санскрит.
– Так ты китаец, да? – напирал Пенденнис. – Мы точно не уверены, выглядишь ты как англичанин, но Колин божится, что ты азиат.
– Я родился в Кантоне, – терпеливо сказал Робин. – Хотя могу назвать себя и англичанином.
– Я знаю про Китай, – вмешался Вудкомб. – «Кубла-хан».
На мгновение повисла пауза.
– Да, – сказал Робин, гадая, зачем тот это сказал.
– Это поэма Кольриджа, – уточнил Вулкомб. – Произведение с восточным духом. И все же очень романтичное.
– Как интересно, – сказал Робин, изо всех сил пытаясь быть вежливым. – Нужно будет прочитать.
Снова установилась тишина. Робин чувствовал, что должен поддержать разговор, и попытался задать встречный вопрос.
– Так чем вы все собираетесь заняться? В смысле, когда получите диплом?
Они засмеялись. Пенденнис подпер рукой подбородок.
– Занятие, – протянул он, – такое пролетарское слово. Я предпочитаю жизнь ума.
– Не слушай его, – сказал Вулкомб. – Он до самой смерти будет жить у себя в поместье и мучить гостей своими философскими разглагольствованиями. Я стану священником, а Колин – юристом. Милтон будет врачом, если заставит себя ходить на лекции.
– Так ты не получишь здесь никакой профессии? – спросил Робин Пенденниса.
– Я пишу, – заявил тот с хорошо рассчитанным безразличием: так закрытый человек выдает крупицы информации в надежде, что станет предметом обожания. – Пишу стихи. Пока что у меня их немного…
– Покажи ему! – вскричал Колин как по команде. – Покажи. Они такие глубокие, Робин, только послушай…
– Ладно. – Пенденнис подался вперед с деланой неохотой и потянулся к стопке бумаг, которые, как понял Робин, все это время лежали на журнальном столике. – Итак, это ответ на «Озимандию» Шелли [41], это стихотворение, как вы знаете, является одой неумолимому времени, которое несет опустошение всем великим империям и их наследию. Только я утверждаю, что в современную эпоху наследие можно создать надолго, и в Оксфорде на самом деле есть великие люди, способные выполнить такую монументальную задачу. – Он откашлялся. – Я начал с той же строки, что и Шелли: «Я встретил путника; он шел из стран далеких»…
Робин откинулся назад и осушил остаток мадеры. Прошло несколько секунд, прежде чем он понял, что стихотворение закончилось и от него ждут похвалы.
– В Вавилоне мы переводим поэзию, – туманно сказал он, поскольку не мог придумать ничего лучше.
– Конечно, это не то же самое, – сказал Пенденнис. – Перевод поэзии – занятие для тех, у кого недостаточно собственного творческого огня. Приходится довольствоваться тенью чужой славы, переписывая чужие работы.
Робин фыркнул.
– Мне так не кажется.
– Откуда тебе знать? – возразил Пенденнис. – Ты же не поэт.
– Вообще-то, я думаю, – Робин потеребил ножку бокала, а потом все-таки решил высказаться, – что переводить гораздо труднее, чем сочинять, во многих смыслах. Поэт волен говорить что пожелает, может выбрать любой лингвистический прием из своего языка. Выбор и порядок слов, звучание – все это имеет значение, без одного элемента все стихотворение разваливается. Вот почему Шелли пишет, что переводить поэзию так же разумно, как бросать фиалку в тигель [42]. Переводчику следует быть переводчиком, литературным критиком и поэтом одновременно, он должен свободно читать оригинал и понимать все нюансы, передать смысл с максимально возможной точностью, а затем перестроить перевод в красивую структуру на своем языке, которая, по его мнению, соответствует оригиналу. Поэт бежит по лугу без оглядки. Переводчик танцует в кандалах.
К концу этой речи Пенденнис с друзьями пораженно уставились на него с разинутыми ртами, как будто не могли понять, что теперь с ним делать.
– Танцует в кандалах, – повторил Вулкомб после паузы. – Как мило.
– Но я не поэт, – сказал Робин, слегка агрессивнее, чем намеревался. – Так откуда мне знать?
Его тревога полностью растворилась. Его больше не волновало, как он выглядит, правильно ли застегнут сюртук и не осталось ли в уголке губ крошек. Он не нуждался в одобрении Пенденниса. Ему было плевать, одобряет ли его кто-то из них.
Правда о причинах приглашения всплыла в голове с такой ясностью, что Робин чуть не засмеялся в голос. Они не оценивали его, чтобы принять в свои ряды. Они пытались произвести на него впечатление и тем самым продемонстрировать собственное превосходство, доказать, что престижнее быть другом Элтона Пенденниса, чем учиться в Вавилоне.
Но они не произвели впечатления на Робина. Это и есть сливки оксфордского общества? Вот эти люди? Ему было жаль их – мальчишек, которые считали себя утонченными эстетами высшей пробы. Но они никогда не сумеют выгравировать слово на серебряной пластине и не почувствуют, как тяжесть его смысла отдается в пальцах. Они никогда не изменят мир одним своим желанием.
– И этому учат в Вавилоне? – спросил Вулкомб с едва заметным трепетом.
Похоже, никто больше не обращался к Элтону Пенденнису.
– И этому тоже, – ответил Робин. Каждое слово вливало в него новую энергию. Эти мальчишки были пустым местом; он мог уничтожить их одним словом, если бы захотел. Он мог вскочить на диван и выплеснуть вино на шторы без всяких последствий, потому что ему просто было плевать. Этот прилив пьянящей уверенности был ему совершенно незнаком, но чувствовал он себя прекрасно. – Конечно, истинная суть Вавилона – это обработка серебра. Все эти разговоры о поэзии – лишь лежащая в основании теория.
Он говорил как на духу. Робин имел лишь очень смутное представление о теории, лежащей в основе обработки серебра, но сказанное отлично звучало и производило неизгладимое впечатление.
– А ты сам работал с серебром? – спросил Сент-Клауд. Пенденнис стрельнул в него раздраженным взглядом, но тот не умолк. – Это трудно?
– Я пока еще только изучаю основы, – признался Робин. – Сначала у нас два года теории, потом один год ученичества на одной из кафедр, а затем я смогу гравировать серебро самостоятельно.
– А нам ты можешь показать? – спросил Пенденнис. – Я могу этому научиться?
– У тебя не получится.
– Почему это? Я знаю латынь и греческий.
– Ты знаешь их недостаточно хорошо, – пояснил Робин. – Нужно жить и дышать языком, а не просто время от времени возиться с текстами. Тебе снятся сны на каких-то языках помимо английского?
– А тебе? – отозвался Пенденнис.
– Ну конечно. В конце концов, я ведь китаец.
В комнате снова установилась напряженная тишина. Робин решил спасти положение.
– Благодарю за приглашение, – сказал он, вставая. – Но мне нужно в библиотеку.
– Разумеется, – сказал Пенденнис. – Вам наверняка много задают.
Пока Робин забирал свое пальто, все молчали. Пенденнис лениво наблюдал за ним из-под полуприкрытых век, медленно потягивая мадеру. Колин быстро моргал и пару раз открыл и закрыл рот, так ничего и не сказав. Милтон собрался встать, чтобы проводить Робина до двери, но тот жестом велел ему не беспокоиться.
– Ты найдешь дорогу к выходу? – спросил Пенденнис.
– Безусловно, – ответил Робин, обернувшись через плечо. – Дом не так уж велик.
На следующее утро он рассказал обо всем однокурсникам, вызвав раскаты смеха.
– Повтори его стихотворение, – попросила Виктуар. – Пожалуйста.
– Я не помню его целиком, но дай подумать… Да, точно, там была еще такая строчка: «Кровь нации течет в его благородной щеке…»