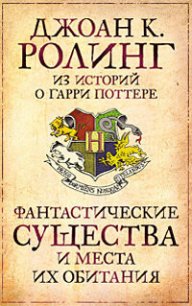Личный демон. Книга 1 (СИ) - Ципоркина Инесса Владимировна (читать хорошую книгу .TXT) 📗
— Дети там остались! Дети там остались! Дети там остались! — и дрожал при этом, словно осиновый лист. Почему осиновый? — вдруг подумала Катя. Неужели другие листья дрожат слабее? — и только потом обнаружила, что изо всех сил обнимает демона. А богиня безумия обнимает их обоих и напевает колыбельно, тягуче: «Ведь мы живем для того, чтобы завтра сдо-о-охнуть, мы живём для того, чтобы завтра сдо-о-охнуть, най-на-на-на…» [24] Мотив показался Катерине знакомым. А слова показались отвратительными, как всякая несвоевременная правда.
Песня висела в воздухе, точно плотное, почти осязаемое облако ленивой обреченности. Так поют галерные рабы… наверное. Кате не хотелось вспоминать Кэт, чтобы узнать у нее, как именно поют рабы и на что похожа их жизнь в грязи, голоде и безысходности. Ад подступил слишком близко, чтобы думать о нем отвлеченно. И все-таки песня успокоила Сабнака: он прерывисто вздохнул, словно наплакавшийся ребенок, и улегся на землю, уже не такую холодную, покрытую первой травой. Трава выросла прямо на глазах — посреди серого, будто застиранная простыня, московского снега появилась проталина, а на ней — ярко-зеленый кривоватый овал, похожий на столик в казино.
Так они и сидели на берегу микрокосма зла: Сабнак спал, Апрель пела, Катя разговаривала сама с собой, а ее сын лежал, свернувшись кольцом, точно уроборос, и отгораживал всех троих от бесприютного зимнего мира. Внутри его шипастого тела, нагревшегося, словно гигантская батарея, было почти уютно. Надо бы отнести демона домой, вяло ворочались мысли. К нему домой, через дорогу, быстрее. Хотя… у него же в квартире жуткая антисанитария. Там Сабнак подхватит гангрену, будь он хоть трижды демон. Или здесь нет никакой гангрены, да и микробов никаких нет? Какие микробы в подсознании?
Как глупо, что я не знаю ни единого закона здешней действительности, подумала Катерина. Я даже не знаю, моя ли она, эта действительность, или она наша общая, коллективная, как бессознательное. Что здесь соответствует доброй старой вселенной — животный мир? законы физики? ход истории? Что я могу прихватить сюда из накопленного багажа правил и привычек? Все было как в самом унылом из катиных кошмаров: вдруг обнаруживаешь себя на экзамене, а названия предмета вспомнить не можешь. И тебя затягивает трясина ужаса и стыда, несоразмерная грозящей опасности.
— О каких детях он говорил, мам? — шепотом, способным разбудить мертвого, спросил Витька.
— Наверное, о молодых духах, — пожала плечами Катя. — Насмотрелся ужасов, небось, в нганга…
— Мы должны им помочь! — заявил Виктор, ухитрившись голосом поставить в предложении и вопросительный знак, и восклицательный. Похоже, предоставил окончательный выбор матери. А мать и сама мечтала предоставить выбор кому-нибудь другому. Апрель в ипостаси Мамы Лу уже расписалась в собственном незнании, к кому обратимся теперь? К Сабнаку, который спасся из нганга лишь благодаря необъяснимому вскипанию этого горшка со злом? Кстати, а почему тот закипел?
— Потому, что в него попали твои слезы, — мрачно проворчал кто-то мелкий и темный, протискиваясь мимо витькиной морды в крохотное пространство внутри шипастого кольца, — и кровь. Слезы и кровь камня порчи.
Наама и в здешних палестинах обличья не переменила. Так и осталась жилистым уличным зверем, весь облик которого говорит: не надо тянуть ко мне лапы, спрашивать «Киса, ты чья?» Приберегите жалость для слабых духом. Давайте свою сосиску и идите своей дорогой, презренные! И такой родной показалась Катерине мать обмана, что захотелось взять неласковую скотину на руки и бесцеремонно зарыться лицом в черный негустой мех. Но Катя преодолела себя.
— Кровь и слезы камня порчи? — вместо ненужных объятий спросила она. — То есть, получается, это я здесь камень порчи, а не Глаз бога-ягуара?
— А чему ты удивляешься? — вопросом на вопрос ответила кошка. — Кэт сживалась с глазом Питао-Шоо целых десять лет. Тебе кажется, этого мало, чтобы напитаться мыслями камня?
— Он еще и мыслит… — произнесла в сторону Катерина.
Наама посмотрела на нее со снисходительным отвращением.
— Разумеется. Он. Мыслит. Созданиям богов не нужно иметь в башке полтора кило жирной извилистой массы, чтобы думать. Им не обязательно иметь даже башку.
— И какими же мыслями… напиталась Кэт? — осторожно поинтересовалась Катя. Хотя ей казалось: всё она знает. Просто боится признаться: в ее, Кати, подсознании окопался личный терминатор.
Богиня обмана продолжала глядеть на Катерину с тем же выражением. Катерине померещилось: прямо сейчас в ее душе снуют, перебирая содержимое, золушкины пальцы — фасоль, чечевица, фасоль, чечевица, чечевица, чечевица, фасоль… Пение Апрель внезапно ускорилось, стало громким, назойливым: «Все, что было — прошло, значит надо добавить… еще-о-о-о, чтобы стало светло хотя бы на миг…» И демон гнилья проснулся, повел предсмертно заострившимся носом, точно любимый аромат учуял. Катя отступила назад, нащупывая пальцами драконью чешую, надеясь улизнуть, перебраться через змеиное тулово, вывалиться по ту сторону круга, где ни взгляд, ни песня ее не достанут — и наткнулась спиной на что-то, на ощупь напоминавшее броню. Но не драконью. Чьи-то руки схватили ее за плечи и пригвоздили к месту. Некуда бежать.
Придется нам пережить расщепление до конца, мелькнула мысль. Не катина мысль, чужая. Прощай, Кэт, мысленно произнесла Катерина. Не прощай, а здравствуй, засмеялась Кэт.
И стало стыдно, очень стыдно.
Чувство вины брало за душу, раздергивало ее в клочья, будто переваренную курицу, с хрустом выворачивая конечности из суставов, разламывая грудную клетку и шаря в открывшейся дыре в поисках сердца. Это была не та мука, от которой кричат, пока не сорвут голос. От такого мычат и зажмуриваются, натягивая на голову одеяло, кусают кулак и клянутся: никогда больше, никогда-никогда-никогда! — чтобы через малое время переступить через клятву и сделать то, от чего зарекались тысячу раз. Лишь бы угомонить сатану, рвущего живую душу в лохмотья. Лишь бы забыться в приятном нигде, старательно избегая возвращения в реальность и новых встреч с алчущим демоном стыда.
— Я не демон, совсем даже наоборот, — прошептали Катерине в самое ухо. — Я ангел, Катенька, твой единственный друг.
Только тут Катю отпустило. От слабости она немедленно рухнула наземь, бок о бок с кем-то, уже лежащим на траве. Лазарет, а не сквер, с раздражением подумала Катерина. Сабнак, я, еще какой-то бедолага… Кто бы это мог быть?
И скосила глаза.
Рядом, вдыхая и выдыхая с такой сосредоточенностью, точно ей за это деньги платят, лежала Кэт. Катя ее сразу узнала. У Кэт оказалось сожжено пол-лица и глаз закрывала черная нашлепка — совсем как недавно у Катерины. Висок голый, а сухие, ломкие волосы — наполовину седые. При этом Кэт была молодой, совсем молодой. Сколько ей стукнуло — двадцать пять, двадцать семь? — когда пиратка вздумала навестить родной город и была повешена у линии отлива? На Кэт красовался тот самый наряд, в котором Катерина посещала Бельтейн. Сейчас вышитый камзол, бриджи из тафты и ботфорты каймановой кожи лежали, по идее, в шкафу. В нескольких кварталах отсюда.
— Порка Мадонна… — слабо произнесла Кэт. — Срань господня… Где это я?
Наама подмигнула новорожденной катиной ипостаси, Витька гулко хмыкнул, Сабнак послал воздушный поцелуй, а Апрель радостно зааплодировала. И только тот, кто стоял позади Кати, заскрежетал зубами. Цапфуэль, догадалась Катерина.
— Уриил, — мягко поправил ее тот, кто позади. Катя обернулась — и закричала в голос, не сдержалась.
Это действительно был не Цапфуэль. К его облику Катерина уже привыкла, как к родному — ну Дрюня, то есть Анджей, с эффектной подсветкой и в выгодном ракурсе, весь серебрящийся, будто новогодняя елочка. Ничего, если разобраться, выдающегося, особенно для людей, видавших персов [25] и покруче, как сказал бы Витька.

![Личный демон [СИ] - Котик Анастасия (читать полностью бесплатно хорошие книги .TXT) 📗](/uploads/posts/books/53351/53351.jpg)