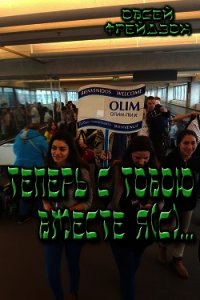Аид, любимец Судьбы. Книга 2: Судьба на плечах (СИ) - Кисель Елена (книги бесплатно TXT) 📗
Ахерон подождал, пока рассосется остальная свита: за годы моего правления подземные научились исчезать из зала на удивление быстро. Аксалаф еще медлил, в сомнении глядя на меня: вдруг заберу слово назад? Титан цыкнул было на сынка, но я остановил его жестом.
– Прими совет, юный Аксалаф. Когда явишься к Деметре – не упоминай моего имени.
Когда за безумцем-садовником закрылась дверь, Ахерон посмотрел на меня. В глазах титана пенилась укоризна.
– А мне-то теперь – что?
Я встал с трона. Прошелся по залу, разминая затекшие за день сидения мышцы.
– Ничего. Скажи жене – пусть других нарожает.
– Так она уже скоро… Пузо – во, – поскреб волосатую ляжку, выглядывающую из-под хитона. Костистый, заросший, весь из углов, как изломы его реки. – А если такой же болван родится?
– Не родится. Такие раз в столетие бывают. Или меньше.
– А? А жалко все-таки… наследник. Я б его лучше… выпорол еще. Чем туда отпускать…
– Выпорешь. Когда вернется.
Ахерон бросил чесаться. Уставился из-под клочковатых бровей жадно, пытливо – смертные так на оракулов смотрят, когда ждут божественного откровения.
– Правда? Вернется?!
Он не понимал моей жестокости. Жестокость в понимании Ахерона была простой: по шее, потом еще по шее, а если войти в раж – то можно и за кнут взяться. А тут… сопливому юнцу потакать, на поверхность его выпускать… Еще полмира следом увяжется!
Иногда самое жестокое – это как раз потакать. Позволить наивному набить шишек о собственную мечту. Тогда не только наивность пройдет – и мечта куда-то денется.
– Вернется, – повторил я, пожимая плечами…
Аксалаф пришел скоро – через два месяца.
Пришел не в зал, не к свите, не к отцу: ко мне. Подстерег, когда я прогуливался в каменном саду, среди драгоценных цветов и ручьев, звучащих в хрустале.
Обгоревший на солнце, в выцветшем добела хламисе. Ремешок на волосах потерялся, и черные кудри наползали на выпитые, больные глаза.
– Покарай меня, Владыка, – сказал мальчик тихо. – Пожалуйста. Папе не говори, что я пришел. Просто покарай.
Гермес-Психопомп умудряется не только водить тени. Он еще хорошо распускает слухи о моем мире. О подземных чудовищах, стигийских болотах, Лете, асфоделях, Хароне… О ледяной безжалостности самого Владыки – неподкупного судии.
Которому только дай покарать.
– Передумал жить в свете? – спросил я.
Он сжимал кулаки и блуждал взглядом по неживой, каменной зелени, точеным из аметистов колокольчикам, асфоделям из чистого золота.
Потом вдруг затрясся в рыданиях и сполз на землю.
– Я хотел… я так хотел… но эта старая сука… «Иди туда, откуда выполз!» «Вам, подземным, только убивать, какая тебе красота!» Я… я покажу… я бы еще лучше ее… если бы знал…
Под «старой сукой», видимо, разумелась прекрасная Деметра Плодоносная.
– А я ходил, просил, умолял на коленях… А она мне: «Иди выращивать кувшинки в этих ваших болотах, большего тебе не дано!» И они смеялись… все смеялись, даже нимфы эти…
Мальчик рыдал, дергал плечами, заглушая пение закованных в хрусталь ручьев. Потом всхлипнул в последний раз и взял себя в руки. Вытер лицо полой плаща.
– Я знаю, что за глупость нужно карать. Я совершил глупость. Я отдаюсь в твои руки. Все равно у меня больше ничего не осталось: делай, что хочешь…
Ствол ближайшей яблони был искусно кован из меди. До того искусно, что ощущались даже трещины в коре. Каменные листья тонко перестукивались между собой, и качались гладкие, обточенные яблоки из дивного оникса.
– Трудно карать того, у кого ничего не осталось. Встань. Слабость многим льстит. Но меня - раздражает.
Он послушной тенью следовал за мной по каменному саду. Ступал по дорожкам, выложенным серебряными пластинами, мимо сделанных Гефестом соловьев, искрящейся алмазной россыпью кустов, черномраморных статуй нимф и кентавров.
Мы остановились там, где сад обрывался у потока Флегетона. Языки огня прилипли к скалам – не оторвать, внизу – бурлящая, клокочущая вода, а за рекой – пустошь, а за пустошью…
Далеко-далеко, нецарскими глазами не увидеть – пасть Тартара…
Здесь я наконец заговорил.
– Светлый мир неохотно принимает подземных. Живи там, где твое место. Помирись с отцом. Найди себе занятие по вкусу.
– Но я не хочу быть чудовищем! – подавился собственным криком. Опять глупо растопырил руки. Сейчас в отчаянии бросится в Флегетон.
Дурак, ты ж бессмертный, выживешь, только кожи лишишься навечно.
– А садовником у повелителя чудовищ?
Он недоверчиво глядел на меня – Флегетон горел и качался в остатках слез на ресницах. Потом оглянулся на сад.
– Там же камень. Там все… мертвое.
– Кто сказал, что у меня может быть только один сад?
Не туда смотришь, глупый юнец. Обрати взгляд в сторону пустоши. Тревожащей, неприятной пустоши, за которой – Тартар как на ладони, ничего, что далеко. Ты смотришь в ту сторону – и он на тебя смотрит, и нечем отгородиться…
– Ты… ты… правда… Владыка?!
– Главного садовника у меня нет. Вообще нет садовников. Поторопись с решением, сын Ахерона, я начинаю уставать от нашего разговора.
Да куда ж ты опять на землю грохаться?!
Но на этот раз он не упал. Опустился благоговейно и тихо, как перед величайшей святыней. И прижался солеными, мокрыми губами к краю моего плаща.
– Этот сад будет прекраснее, чем у Деметры…
* * *
Память. Чистая, неразбавленная, каждой веткой в глаза.
В каменном саду поют соловьи, сделанные Гефестом.
Во втором саду все и всегда молчит.
От первого ко второму ведет тонкий мост над огненными водами, хрупкая граница. Выбирай, что тебе по вкусу: холод и совершенство камней или этот рассадник памяти.
Аксалаф задумывал это как место моего уединения, а может, и отдохновения. Выпячивал тощую, не отцовскую грудь: «Сама Деметра бы так не смогла! Да что она! Да вообще никто…»
О Деметре садовник говорит, не переставая – с упоенной ненавистью и неистребимой жаждой мести.
Правда: Деметре бы в голову не пришло создать подобное.
Черные кипарисы. Ивы. Гранаты.
Тут и там из темной, почти черной травы поднимает голову бледно-золотистый, пахнущий утешением венчик.
Серебристые тополя протягивают ветви во тьму: в деревьях живо желание переплести черное серебром.
Ручей, закованный в каменном саду в хрусталь, здесь жив и не в плену, но вздохи его – зловещи.
Можно сидеть на берегу, можно – на одной из искусно вырезанных скамей, а можно расхаживать, приминая сандалиями траву.
Каменному саду я предпочитаю сад памяти.
Скамейке – берег.
Серебристости начищенных зеркал – неверную поверхность подземных вод.
Владыке нужно посмотреть на себя не в драгоценном обрамлении. Если бы цари видели себя почаще в простой воде – может, ко мне попадало бы меньше молодых теней.
– Что видишь, невидимка?
Вижу бога. Царя вижу. Зрелого мужа: по земным меркам – не меньше сорока минуло, и когда это я так успел? Брал жребий – казалось, что было тридцать по смертному счету…
Подземный мир с каждым годом впитывается под кожу, проходится по ней трепетным резцом. Морщина между бровей – неизгладимая, знак судии теней. Возле глаз прошлось несколько раз осторожное лезвие: отметило правителя своих подданных. Складки у губ шепчут: палач. Посадка головы так и намекает: если и палач – то великий.
Опять не так смотрю: глазами. А если по-старому – собой…
– Я – больше не воин. Я вернулся. Я – опять лавагет…
Багряный фарос облекает верной броней. Оружие в пальцах – двузубец. И армия… вон моя армия – стонущая на полях асфоделя, пожирающая младенцев в стигийских логовах, исторгающая тени…
– Что слышишь, невидимка?
– Всё то же.
Каждый день – всё то же. Подрастают гранаты – любимцы Аксалафа, он плодит их повсюду, дай ему волю – весь подземный мир засадил бы. Мир непонятно как, но терпит. Харон берет исправную мзду с теней и окончательно свыкся с карой. Настолько, что и карой ее уже не считает. Разглагольствует в том смысле, что «Да если бы меня тут не было – что бы они делали!».