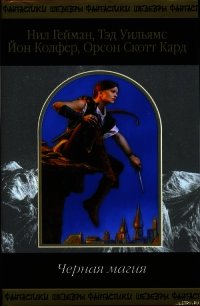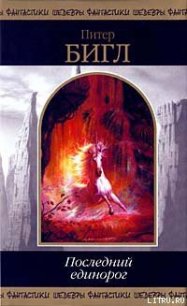Песня трактирщика - Бигл Питер Сойер (библиотека электронных книг .TXT) 📗
Ньятенери смотрел в никуда. Лицо его ничего не выражало. Мой Друг продолжал. Голос его дрожал от усталости и еще немного — от его прежнего смеха:
— У ищеек превосходный нюх, но видят они плоховато. Можно сказать, что я научил Ньятенери отводить им глаза — хотя бы ненадолго…
Последняя фраза осталась незаконченной и повисла в воздухе в ожидании ответа.
— Ненадолго, — кивнул Ньятенери. — Последние нашли меня по запаху. Третья все еще бегает на свободе.
Мой Друг кивнул, ничуть не удивившись.
— А-а, вот в этом-то и есть главная сложность с уловками: даже лучшие из них срабатывают не всегда. А когда используешь их все, действительно не остается ничего, ничего, кроме тебя самого. Этому научил меня он — Аршадин.
В комнате стало очень тихо. Я почувствовала, что должна сказать хоть что-нибудь. И сказала:
— Аршадин… Парнишка, который пришел вскоре после меня, с горским акцентом и забавными ушами.
И почти одновременно со мной Ньятенери добавил:
— Я его помню. Невысокий южанин, он еще все время носил под рубашкой флейту-чикчи.
Но Мой Друг медленно перекатил голову с боку на бок: он был слишком слаб даже для того, чтобы как следует покачать ею.
— Нет. Вы не знаете Аршадина. Да и я его тоже не знал.
Он прикрыл глаза и ненадолго умолк, пока Лукасса возилась с подушками, а мы с Ньятенери смотрели друг на друга — безмолвно, неохотно идя бок о бок сквозь дни и ночи, не менее близкие оттого, что нас разделяли годы. «Да, его невозможно торопить, из него ничего не вытянешь, пока он сам не пожелает рассказать — и только так, как он сам пожелает. Помнишь, помнишь, как он, бывало, снова и снова — он тебе говорил? — я помню, да, а помнишь, как это всегда сводило тебя с ума?» В углу оконной рамы жужжала муха, на дворе хрипло ревел любимый ослик Россета, выпрашивая прошлогоднее яблочко.
Бледные, усталые глаза, когда-то такие ярко-зеленые, внезапно открылись.
— Когда ты ушла, мне тебя очень не хватало, чамата. — Его голос был ровным и задумчивым. — Я не был готов к этому — не был готов к тому, что вдруг начну по кому-то тосковать, в мои-то годы. Это все равно, как если бы у меня вдруг прорезались новые зубы или я вдруг взялся петь серенады юным девицам. Это было… — он запнулся, — короче, от этого мне стало не по себе.
Я уставилась на него, не в силах выдавить ни слова. Ведь в тот день, когда я в одиночестве снова вышла в широкий мир, потому что он сказал, что пришло время, он не обнял меня на прощание и даже не задержался, чтобы посмотреть мне вслед. Я была еще молода, и, кроме него, у меня не было никого, и я плакала о нем много ночей подряд, кутаясь в свое одеяло под деревьями, с которых падали капли, когда лишь ветви укрывали меня от неба. Но мне никогда не приходило в голову задуматься, не чувствует ли он себя одиноким и обездоленным без меня. И даже теперь эта мысль казалась мне почти такой же странной и неестественной, какой должна была казаться ему. Ньятенери чуть заметно улыбнулся — беззлобно, но меня это все равно задело.
— Мне стало не по себе, — продолжал Мой Друг. — То ли я более чувствителен, чем мне казалось, то ли моему тщеславию требуется кто-то, кого можно было бы спасать, защищать и учить. Как бы то ни было, Аршадин пришел к моему порогу, когда я был, так сказать, в расстройстве, когда мне чего-то не хватало. На вид — самый обычный парнишка. Не было в нем ни твоего, Лал, яростного обаяния, ни внушительности Ньятенери. Не был он и беглецом. Обыкновенный парень, младший сын фермера, упитанный, слегка образованный и твердо знающий, чего он хочет от жизни.
Он помолчал, рассеянно поглаживая Лукассу по голове и обводя нас взглядом. Я — инбарати Хайдуна, даже если я никогда снова не увижу Хайдуна — а я его никогда не увижу, — меня с детства обучали рассказывать истории, и все же от этого человека я узнала о хитром искусстве рассказчика не меньше, чем от своей матери, бабки и многочисленных тетушек. Ему я об этом никогда не говорила.
Мой Друг сказал:
— У Аршадина была одна цель, очень простая. Он хотел сделаться величайшим магом, когда-либо жившим на свете. Он этого добился.
Тут снова заревел осел Россета, и это заставило нас всех расхохотаться — пожалуй, чересчур громко. Мой Друг ненадолго снова умолк, потом продолжал тихо, словно бы говоря сам с собой:
— Видите ли, ты никогда не можешь отделаться от мысли, не из тех ли ты, кто не способен устоять перед искушением учить и наставлять. «А что будет, когда я встречусь с человеком, чей дар сильнее моего собственного? Легко быть добрым и щедрым с теми, кто не угрожает тебе, — но как поступлю я с тем, кто могущественнее меня и сам еще не сознает этого? Что я стану делать тогда?»
Мы с Ньятенери заговорили одновременно, но Мой Друг остановил меня движением руки, слабым, но оттого не менее повелительным:
— С вашего разрешения, все заверения в том, что такого никогда не случится, мы пропустим. Всем нам рано или поздно приходится встретиться с теми, кто сильнее нас — а зачем еще, по-вашему, мы живем на свете? — и вот я говорю вам, что мой победитель явился ко мне однажды ненастным днем, и, когда я вышел на порог, рот у меня был еще набит пирогом, который я ел за чаем. Я узнал его сразу — как ты, Лал, в один прекрасный день признаешь лучшего бойца, чем ты, с первого взмаха мечей. И я пригласил его на чай.
Ньятенери смотрел на него, сурово и насмешливо хмурясь.
— Должно быть, это действительно произошло сто лет тому назад! Помнится, ты все настаивал, чтобы я научился как следует заваривать чай, но так ни разу и не согласился выпить то, что у меня получалось. Я едва не спятил, пытаясь заварить чай, который бы тебя, наконец, устроил.
— О, к тому времени я отказался не только от чая, — очень тихо ответил Мой Друг. — К тому времени, как ты пришел, я уже давно был занят тем, что готовился к своей ламисетии.
Мы вопросительно уставились на него. Он улыбнулся.
— Это древнее слово, его употребляют волшебники. Означает оно примерно «последний путь». Если ты волшебник, главное в твоей жизни — это то, как ты умрешь. Вы знаете, почему это так? А, Ньятенери?
Как будто он снова был нашим наставником и снова подзуживал и подначивал нас своими загадками, на которые, казалось, всегда был лишь один ответ, и ответ этот всегда оказывался неверным.
— Ты ведь, помнится, очень интересовался такими вещами, куда больше, чем Лал?
Но Ньятенери молча покачал головой.
Мой Друг сказал:
— Волшебник обязательно должен умереть в мире. Речь идет не о мире с соседями или местным правителем и не о том, что большинство людей называет душевным покоем, имея в виду, что человек успел задобрить всех богов, которым когда-либо поклонялся. Речь идет именно о душе — нужно уйти в себя, обрести душевное равновесие. Это требует длительной подготовки, и маг может достичь этого, только совершив длительное, монотонное путешествие. Вот это и называется ламисетия. Как я уже сказал, перевести это слово буквально довольно трудно.
Тут постучали, и я пошла отворить. Я ожидала увидеть Карша, но то был всего-навсего Гатти-Джинни, который к тому времени, как я открыла дверь, уже начал пятиться назад. Нас с Лукассой он явно побаивался, зато не упускал случая поухаживать за Ньятенери.
— Карш… — промямлил он. — Если старик останется ночевать, положено платить больше…
— Он останется ночевать, — сказала я. — Он останется здесь надолго. И в лучшей комнате, чем эта. Я договорюсь с Каршем. А тем временем пришлите наверх хлеба, бульону и вина — только, пожалуйста, не «Драконьей дочери».
Но Гатти-Джинни уже заторопился обратно. Когда я вернулась в комнату, Ньятенери говорил:
— И все же ты принял меня. Ничего себе, священный покой! Впрочем, об этом говорить не стоит.
Мой Друг криво усмехнулся:
— Ну да, конечно. Видимо, я легко отвлекаюсь — ты был далеко не первым, кто помешал мне устраивать свои дела. Но тогда я твердо решил, что ты будешь последним и, когда ты наконец отправишься своей дорогой, я больше ни за что не попадусь в эту старую ловушку. Так оно и вышло. Я сдержал данное себе слово. Но мне помешало иное.