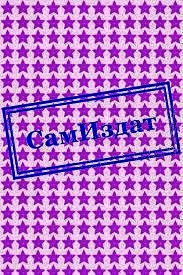От заката до рассвета (СИ) - Артемов Александр Александрович (электронная книга TXT, FB2) 📗
— Солдаты? — недоверчиво посмотрел Милош ему прямо в глаза. — Какие солдаты?
Игриш не ответил. Он очень не хотел вспоминать.
— Эй! Я спросил — что за солдаты?
— Отстань…
— Чего это? Ты чего опять дуешься, дуреха?
— Нет, — покачал головой Игриш. — Не хочу я разговаривать.
— Ну и дурень! Чего еще делать, коли говорить не хочешь? Спать тогда ложись.
Но Игриш и спать не хотел. Вернее не мог. Боялся. Знал, что если сейчас зароется в сено и закроет глаза, колодец вернется.
Милош же, ворча себе под нос, принялся сам закапываться в сено, глубоко вздохнул всей грудью и затих, оставив Игриша одного с его демонами.
Глава 14
Шаги на лестнице одноглазый услышал еще загодя, и, стараясь не шевелиться, чуть приподнял свою повязку, зажмурив другой глаз. Темнота сразу же рассеялась, уступив место голубому свечению, от которого никому не скрыться даже в самом темном углу. По лестнице поднимался явно не Гриш — уж слишком тяжело ступал посетитель, в отличие от легкого и вечно осторожничающего мальчонки. Шаги затихли прямо перед крохотной дверкой, ведущей к нему на чердак. Некто снаружи чуть подождал, очевидно, прислушиваясь, и потом слегка толкнул преграду — дверка дрогнула и уперлась в крючок. У Каурая и в мыслях не было впускать гостя или слать его ко всем чертям, — он решил подождать и посмотреть, как проявит себя незваный посетитель.
И он был вознагражден до мурашек — между дверью и косяком медленно, стараясь не слишком задевать доски, просунулось лезвие ножа и также неторопливо поплыло вверх. Приподняло запорный крючок и еле слышно откинуло его с колечка. Каурай уже тянулся к собственному лезвию — оно всегда терпеливо ждало в изголовье. Вернее ждало тех, кто решиться нарушить покой своего хозяина.
Дверка медленно приоткрылась, на пол лег свет от лучины, следом ступили мягкие сапожки с загнутыми носами. Напряженный как пружина, Каурай не двигался — он внимательно смотрел прямо в лицо тому, кто так бесцеремонно решил нарушить его покой и даже не постучался.
— Кхм, пан Каурай?! — прочистил горло Кречет, переминаясь с ноги на ногу. — Прошу прощения, что не называю по имени-отчеству… Ты здесь?
— Только не говори, что они снова зовут меня продемонстрировать тот бросок с пол оборота, — мрачно ответили ему из темноты. Лезвие пока отправлялось почивать дальше.
— Та нет же, — простодушно махнул рукой Кречет, захлопывая за собой дверцу и накидывая крючок на место. — Ребята уже храпят за десятерых! Намаялись за день, бедные.
— Слава святым и смелым…
— Но надо сказать, ловок ты в обращении с ножами — аж зависть берет! — улыбнулся в усы Кречет, оглядываясь вокруг в поисках чего-нибудь напоминающего стул. — Сам практиковался с младых ногтей и то тебе в подметки не гожусь. Эх, талант — одно слово!
— Пан Кречет, не говори, что решил просто поболтать за мое искусство метать ножи — не поверю. Не обижайся, но час уже поздний…
— Кхм, да, — замялся тот и устроился прямо на полу, подогнув под себя ноги. — Дельце есть у меня к тебе, пан.
— Что за дельце может быть между конвойным и конвоируемым? — приподнял бровь Каурай.
— Да брось, не нагоняй лиху, — махнул рукой Кречет. — Вижу я ты малой бывалый и приходилось тебе выбираться не из одной переделки. Но не верится мне, что ты промышляешь худыми делами. По крайней мере, такими, что могут нас здесь обеспокоить сверх меры. Это я только со зла решил, что ты подозрительная фигура, а потом больше для порядку. Ух и злого твоя лошаденка насыпала нам перцу, искупав нас в Смородинке! И гусю понятно, что из тебя разбойник Баюна, как из меня доярка. Эти негодяи трусы, а не воины. Брешут что-то про волю, себя величают Вольным братством! А сами любят навалиться числом среди ночи, ограбить, пожечь, снасильничать и поминай как звали. В народе-то их давно страхолюдинами кличут за дикой нрав и вид, и поделом! А ты и один против всех моих товарищей не побоялся выступить. Смелость в людях я уважаю. Да и башка та явно не на ярмарке куплена.
— Это откуда такая уверенность? Пан Рогожа бы с тобой не согласился.
— Пану Рогоже каждая тень Баюном кажется, — покачал головой Кречет. — Он уж с полгодика бродит и злым глазом поглядывает на всех подряд, кто только не проедет мимо наших хуторов. Особливо много «баюнов» в шинке обитает, куда Рогожа тоже заскочить не дурак. Горе у него, пан, большое горе! Сына у него бандиты сгубили, вот он и мечтает с энтими душегубцами поквитаться. По правде сказать, мало найдется в округе хлопцев, которые никак не пострадали от ватаги Баюна. У каждого к нему есть счеты.
— Даже у тебя?
— Даже у меня, это ты правильно заметил, — кивнул казак. — Друзья-товарищи — многих сгубили его окровавленные руки, и мне есть за что желать его смерти. Слыхал небось? Третьего дня в его силки попала дочурка нашего почтенного пана Щуба. Бедняжку скрали прямо из родного дома, когда отца не было в хате, а потом нашли ее прямо на дороге — всю оборванную да зверски избитую. Теперь и Щуба не минула нелегкая, как он не старался держать ухо востро и ограждать свою дочку от любой опасности — все зря. И таких девушек в каждом хуторе, пожалуй, найдется хотя бы одна.
— И ты хочешь, чтобы я помог вам отомстить за нее, я правильно понял?
— Да, — сказал Кречет после небольшой заминки. — Не только за нее, но и за всех невинных людей, которые попались Баюну на пути. Неволить тебя я не буду и если ты откажешься наотрез — пойму. Дело это опасное, леса тут непроходимые, болотистые и полнятся самыми разными напастями и без баюновой банды. Но я прошу проехаться с нами хотя бы до острога пана воеводы — послушать, что звери эти творят на Пограничье, глянуть на плоды рук того зла, с которым мы тут сражаемся. Пан воевода не обидит — нынче он все отдаст, только бы мы принесли ему голову Баюна на блюде. У него самого есть сокровище — панночка Божена, которую он хранит как зеницу ока, но все равно страсть как боится за ее судьбу. Не так давно пришлось ему схоронить жинку свою и с тех пор он никак в себя прийти не может.
— Тоже вина разбойников?
— Нет, тут другие причины, но уж очень любил ее воевода. Вот смерть жинки его и надломила. Стар он стал, хоть и все еще в силе. Но из дома своего почти не показывает нос. Если что случиться еще и с дочерью Боженою, быть беде. Нет больше силы на пограничье, которая способна сдержать не только свирепую разбойничью мразь, но и степняков, шатранцев. Когда-то мы с воеводой хорошенько надрали им зад и выгнали их полчища с Пограничья, которое они топтали много лет, уводили людей в полон, насиловали, убивали и творили прочие мерзости. Время было страшное, пан. В народе те годы называют просто — Запустением, ибо не рожала тогда земля ни колоска. Сохрани Спаситель, если орда снова решит занять эту землю, а руки у нас обрублены по локоть силами Баюна и его банды.
— Хорошо. Если ты просишь, то мы сможем задержаться у вас ненадолго. Возможно, воеводу беспокоят не только бесчинства разбойников, а еще есть какие напасти, за которые он готов заплатить.
— Благодарю!
— Но у меня есть условие.
— Слушаю.
— Тот мальчишка, которого я утром поймал в лесу…
— Милош. Но мы зовем его Бесенок.
— Он самый. Конокрадство это конечно тяжкий грех, но…
— Жалеешь его? Боишься, что мальчонку ждет виселица? — хохотнул Кречет. — Этому паскуднику, конечно, не помешает хорошая взбучка, чтоб на всю жизнь запомнил, как лошадей у опекуна красть, но вешать малыша я бы не стал. Тяжело ему живется, сиротке, как ни крути, а Горюн человек… своеобразный.
— Кузнец?
— Да, тот молчун, чью кобылу и стянул маленький негодник. Руки у него золотые, но людей к себе он от чего-то не подпускает, даже товарищей у него считай нету, только знакомцы-собутыльники, когда он завернет в шинку, и то по два раза он ни с кем не пьет. Вот и живет он, бедняга, один-одинешенек на отшибе, холостой, и это на третьем десятке! Ну, я подумал, и отдал ему в ученики мальчонку. Его мамка померла уже годиков десять как, и оставила его совсем одного. Думал, двум этим одиноким сироткам хотя бы друг с другом будет не так грустно: Горюн бы учил пацана ремеслу, а тот ума разума набирался, — всяко лучше обоим, так я думал… А чего ты о нем разговор-то завел?