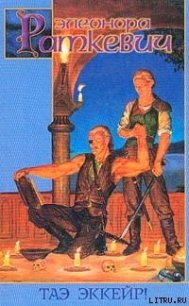Из цикла рассказов «Там, где будет мой дом» - Раткевич Элеонора Генриховна (книги онлайн полные версии бесплатно .TXT) 📗
Когда эльфы, а с ними и лекарь наконец-то пожелали Шеккиху скорейшего выздоровления и ушли, тихонько притворив за собой дверь, он мысленно усмехнулся — на настоящую усмешку сил недоставало. Друзья — это очень хорошо, это просто замечательно… тот, у кого никогда не было друзей, считай, что и не жил вовсе… так пристало ли человеку радоваться, когда друзья уходят? Да, но вместе с друзьями уходят и их голоса, звуки их шагов, звон оружия и шорох одежды… и остается только тишина. Ничем не наполненная тишина. И звуки не скачут от стены к стене, как ополоумевшие мячики. И не грохочут в голове пьяные колокола. И можно закрыть глаза, а потом снова открыть их, медленно-медленно, чтобы взмах ресниц не спугнул тишину. А потом смотреть в потолок… ведь это же так приятно — смотреть в потолок… он ведь совсем такой же, как и до контузии… восхитительный в своей неизменности потолок… смотришь на него и говоришь себе, что ты тоже совсем не изменился — прямо как этот потолок… что не было никакой контузии, а мучительная боль, страдания, противный привкус лекарства во рту — просто так, понарошку… что ты все еще прежний… и останешься прежним… и жизнь твоя будто бы и не поменялась бесповоротно… лежать и смотреть в потолок… и ничего, ничего не слышать, чтобы не проснулось то страшное, что так самовластно распорядилось твоей судьбой и твоим телом. Потому что это тело теперь уже не только твое. Оно принадлежит еще чему-то… или кому-то… кому-то упрямому и зловредному… кому-то, кто задался целью мешать тебе, причинять боль. До сих пор ты никогда не болел — а теперь ты меченый. Меченый болезнью — а значит, и смертью.
Мерзко, мерзко думать о смерти — лучше уж думать о тех, кого она успела похитить. Вспоминать, какими они были при жизни. Внезапно Шеккиху представилось лицо его бабушки. В паутине трещинок на потолке проступили морщины, сам собой возник пристальный взгляд — Шекких даже смигнул, но видение не исчезло. А он-то думал, что и вовсе забыл ее за давностью лет. Оказалось, все он помнит — и проницательную улыбку, и скрюченные старостью пальцы, и шаркающую ревматическую походку, и даже обыкновение вставать с места со словами: «Ну я ж тебе, мерзавке, покажу!» Странные шутки шутит память с человеком! Слышал эти слова Шекких несчетное количество раз — а понял их только теперь. Мальчиком он дивился, отчего бабушка постоянно беседует сама с собой, да еще и честит себя мерзавкой… но она разговаривала не с собой! Она говорила с той мерзостью, которая захватила ее тело, отторгла, сковала, цеплялась изнутри за суставы, мешала ходить, сидеть, стоять… со старостью, болезнью — вот с кем она говорила! С ненавистным врагом, которого надо одолевать ежечасно, ежеминутно, каждым шагом, каждым вдохом. Не дать этому врагу торжествовать над собой. Пожалуй, бабушка Шеккиха была лучшим бойцом, которого он только знал: до самой своей смерти из своей беспрерывной схватки она выходила победителем.
Забавно даже… неужто старенькая бабушка — лучший боец, чем он сам? А ведь так оно по всему и выходит. Правда, у него нет опыта подобных боев, а у бабушки подобного опыта было с лихвой, на троих таких, как Шекких, наберется. Да и мудрости у нее было хоть отбавляй. В детстве Шекких только рот кривил, когда бабушка бралась учить его уму-разуму… теперь бы послушать ее ехидные сентенции и странные притчи!
А притчи, и точно, были странные. Взять хоть эту историю про одноногого бегуна. Кто не слышал сказки о человеке, который мчался быстрее ветра — да-да, том самом, что передвигался на одной ноге, а другую подвязывал? Сказочный бегун и на одной ноге передвигался быстрее, чем все прочие — на двух, и ногу подвязывал, чтобы, сделав пару шагов, не убежать нечаянно на край света. А вот бабушка утверждала, что знавала этого бегуна, И что ногу он подвязывал не для того, чтоб уберечься от последствий своей волшебной быстроты, а совсем по другой причине. Просто отнялась у него эта нога, вот и весь сказ. Причем бабушка говорила, что бегуном он тогда только и заделался, когда остался при одной ноге. Раньше-то он бегал не быстрее прочих, резвостью особой не отличался. А вот как стряслось с ним несчастье, бедолагу злость разобрала: как, мол, это так, да неужто ж я больше никогда ходить не буду? Нет уж, врешь — буду! Не ходить — бегать буду! А если кто не верит — утрись, почтеннейший… а я все равно буду, вот тебе же назло и буду! Это уже потом про него сказки слагать стали… а со временем и вовсе забыли, почему бегун — и вдруг одноногий. А поначалу ему ох как неласково пришлось. Шаг — и носом в пыль, другой — и опять мордой в лужу, а то ведь и о камешки… небось, к тому времени, когда калека стал бегуном, у него на роже больше мозолей наросло, чем на пятке: легко ли эдак оземь грохаться?
А чем ты от него отличаешься, Шекких, внучок любимый? Не ты ли восхищался им втайне — в полной, между прочим, уверенности, что и сам смог бы сделаться бегуном ничуть не хуже, если нужда случится? Так ведь она и случилась — разве нет? Так чего же ты ждешь, одноногий бегун? Делай свой первый шаг… И тебе куда как легче: не следят за тобой насмешливые глаза бывших друзей, не звучат за твоей спиной ехидные голоса, с деланным сочувствием обсуждая каждое твое падение. Ты один, и тебя никто не видит, некого тебе смущаться. Никто тебе и слова не скажет — тишина кругом…
А в тишине и вообще хорошо принимать решения…
— Ах ты рожа чернильная! — взревел Шекких, и толстоморденький майор конвульсивно вздрогнул.
Обвинение было не совсем безосновательным. Мгновением назад Шекких так грохнул кулаком по столу, что деловые бумаги содрогнулись и поползли куда-то в сторону, а чернильница подскочила на добрый вершок, и по дороге встретилась с майором. Шекких нимало не преувеличил: рожа у майора сделалась и впрямь чернильная.
— Печать тебе требуется? — зловеще осведомился Шекких. — Так ты мне только скажи, на какое место ее тебе поставить, а я уж мигом! Так поставлю — за всю жизнь не отскоблишь!
Боевой офицер знал бы, как образумить разбушевавшегося подчиненного. Но майор Шеккиху попался тыловой, канцелярский. Едва ли он хоть раз в жизни держал в руках оружие поопасней детской деревянной сабли, а уж ярости такой в человеке ему точно видывать не доводилось. Бедняга только и сумел, что пискнуть неразборчиво и забиться на стул с ногами, будто спасаясь от собаки, пытающейся цапнуть его за лодыжку. Никаких стратегических преимуществ этот маневр майору не принес. Когда дрожащее от ужаса майорское пузо оказалось вровень с перекошенной физиономией Шеккиха, тот схватил майора за поясной ремень левой рукой и занес было правый кулак…
— Рядовой Шекких — смир-но!
Не оборачиваться на голос Шекких уже научился: две или три попытки ограничиться простым поворотом головы окончились для него такой раздирающей болью, что он и не пытался повторять их. Он нехотя отпустил майора и повернулся весь очень естественным на первый взгляд движением. Шекких несколько дней учился этому плавному развороту, упорно избавляясь от малейшей нарочитости. И подумать только, в какую минуту пришлось воспользоваться этим отработанным до безупречности движением! Ничей окрик не заставил бы Шеккиха выпустить толстопузого майора и повернуться… ничей — кроме этого. Те, кто служил под командованием полковника Кейриста, никогда не забудут его голоса. Не ум даже — само тело помнит, что надо сделать, когда этот голос велит тебе: «Шагом арш!» Полковник чуть приподнял брови и посмотрел на Шеккиха долгим бесстрастным взглядом. Шекких замер, словно его за ноги к полу приколотили. Никто так не умел пригвождать взглядом к месту, как полковник Кейрист. У него даже и глаза были серые с рыжинкой, словно ржавые гвозди.
— Рядовой Шекких, — скучным тихим голосом произнес полковник Кейрист, разворачиваясь, — потрудитесь следовать за мной.
И Шеккиху поплелся следом за ним, хотя полковник формально и не был уже его командиром, а значит, не мог требовать беспрекословного подчинения, пусть он и старше по званию. Будь то не Кейрист, а другой какой-нибудь полковник, Шекких стал бы артачиться и огрызаться, взывать к воинской чести и здравому смыслу… но попробуй же ты огрызнуться, когда приказывает полковник Кейрист!