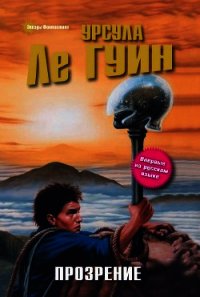Проклятый дар - Ле Гуин Урсула Кребер (книги онлайн полные версии бесплатно TXT) 📗
Потому что моя мать тоже была из каллюков. В Драмманте, например, ее все так и называли.
Я слышал, как Эммон встал и принялся помешивать кочергой угли в камине. Потом вернулся на прежнее место и, помолчав, спросил:
– Значит, эти ваши способности, эти дары передаются по наследству, от отца к сыну, как, скажем, курносый нос?
– И от матери к дочери, – сказала Грай, а я промолчал.
– То есть вам приходится заключать браки внутри своего рода, чтобы сохранить свой дар? Ну это я, допустим, могу понять. Но неужели дар сразу исчезнет, если кто-то не найдет себе пару среди своих дальних родственников?
– У Каррантагов этой проблемы вообще нет – сказал я. – У них и земля богаче, и владения обширней, и людей там живет значительно больше. Там брантор возглавляет десять, а то и больше семей, принадлежащих к одному роду и проживающих на одной территории. А у нас семьи поменьше. И дар действительно может ослабеть или исчезнуть, если слишком часто будут заключаться браки с представителями других родов. Хотя, если дар действительно силен, он все равно сохраняется и передается по наследству – от матери к дочери, от отца к сыну.
– Итак, – Эммон повернулся к Грай, – умение зачаровывать животных ты унаследовала от матери, бранторши вашего рода? – Он придал этому слову форму женского рода, что звучало на редкость нелепо. – А Оррек свой дар получил от брантора Канока? Нет, нет, я больше ни слова не спрошу тебя о твоем даре, Оррек! Но я вот что хочу спросить: скажи мне чисто по-дружески, ты слеп от рождения? Или это ведьмы из Кордеманта, о которых ты говорил, с тобой такое сотворили? Во время очередной феодальной междоусобицы или грабительского налета?
Я не знал, как избежать ответа на этот вопрос, но уклониться не сумел и сказал:
– Нет. Это мой отец запечатал мне глаза.
– Твой отец? Тебя ослепил твой отец?
Я кивнул.
Глава 2
Понять, что твоя жизнь – это всего лишь некая история, которую потом узнают другие, – особенно полезно, когда ты еще только на середине жизненного пути, ибо тогда ты постараешься прожить свою жизнь хорошо. Но глупо было бы думать, что теперь тебе известно, и как пойдет твоя жизнь, и как она закончится. Это ты узнаешь только тогда, когда жизнь твоя действительно подойдет к концу.
Но даже если все уже закончилось, даже если речь идет о чьей-то чужой жизни, о жизни того, кто жил сто лет назад, чью историю я слышал уже много-много раз, каждый раз, слушая ее снова, я боюсь и надеюсь, словно и до сих пор не знаю, как именно она должна закончиться. Я как бы снова и снова проживаю эту историю, и она снова и снова оживает во мне. Между прочим, это очень даже неплохой способ перехитрить смерть. История человеческой жизни – это, как полагает смерть, такая штука, которой именно она, смерть, кладет конец. Но смерть не в силах понять, что хоть эти истории и кончаются смертью, но не кончаются вместе с нею.
Истории других людей могут стать частью твоей собственной жизненной истории, ее основой, тем фундаментом, с которого произрастает твоя история. Так было, например, с той историей, которую мой отец рассказывал мне о Слепом Бранторе; и с историей налета моего отца на город Дьюнет; и с историями моей матери о жизни в Нижних Землях, а также с ее историями о тех временах, «когда Кумбело был королем».
Когда я думаю о своем детстве, я словно снова вхожу в зал Каменного Дома, снова сажусь на скамью у камина, или стою посреди нашего грязноватого двора, или захожу на конюшню Каспроманта, где мой отец всегда поддерживал идеальную чистоту. Я вижу себя в огороде вместе с матерью, которая собирает бобы, или с нею вместе у камина в ее маленькой гостиной, что в круглой башне; или мы с Грай вновь поднимаемся на вершину холма, открытую всем ветрам, и эти истории никогда не кончаются…
Высокий толстый посох из тисового дерева довольно грубой работы, рукоять которого была до черноты отполирована за долгие годы, всегда висел возле двери Каменного Дома в полутемной прихожей. Это был посох Слепого Каддарда. Трогать его запрещалось. Когда я впервые о нем узнал, то еще не доставал макушкой до его рукояти, но уже тогда часто подходил к нему и украдкой касался его ладонью – от этого у меня сладко замирало сердце, потому что делать это было запрещено и потому что история посоха была окутана тайной.
Наверное, думал я тогда, этот брантор Каддард – отец моего отца, ибо по малолетству еще не способен был погрузиться в глубины фамильной истории. Я знал только, что деда моего звали Оррек и меня назвали в его честь. Так что в итоге получалось, что у моего отца было целых два отца. Но меня это почему-то ничуть не смущало, наоборот, казалось чрезвычайно интересным.
В тот день мы с отцом на конюшне чистили лошадей. Отец никому из слуг не доверял ухаживать за своими драгоценными лошадьми и меня начал этому учить, таская с собой на конюшню, когда мне было всего года три. Я помню, что взобрался на высокий табурет и старательно выбирал старую зимнюю шерсть из шкуры нашей чалой кобылы. Через некоторое время я спросил отца, который чистил большого серого жеребца Сероухого в соседнем стойле:
– А почему ты назвал меня именем только одного из своих отцов?
– А у меня был только один отец, – слегка удивившись, ответил он, – в честь которого я тебя и назвал. Почти у всех приличных людей бывает только один отец. – И он засмеялся. Отец мой смеялся нечасто, но тут я еще долго видел у него на губах суховатую улыбку.
– А кто же тогда брантор Каддард? – И вдруг, еще до того, как отец успел мне ответить, я сообразил: – Так он был отцом твоего отца!
– Отцом деда моего отца, – уточнил Канок, окутанный облаком пыли и лошадиной зимней шерсти. Я тоже вернулся к прежнему занятию, за что и был вознагражден – жжением в глазах, в носу и во рту, а также полосой чистенькой светло-рыжей летней шерсти шириной примерно с мою ладонь, появившейся на боку нашей славной Чалой, и тем явным удовольствием, с которым она это восприняла. Чалая у нас была, как кошка: стоило ее приласкать, и она тут же клала голову тебе на плечо. Но обниматься с ней мне было некогда; я оттолкнул ее и продолжил работу, пытаясь расширить замечательно яркую полоску у нее на боку. Что-то слишком много дедов и отцов, чтобы всех их можно было упомнить одному человеку! – думал я.
Тем временем мой настоящий отец, Канок, подошел поближе к тому стойлу, где я трудился, и, вытирая вспотевшее лицо, стал наблюдать за мной. Я же, явно рисуясь, протаскивал гребень по шкуре слишком длинными и плавными движениями, чтобы от них была хоть какая-то польза, но отец мне никаких замечаний не делал. А потом, помолчав, сказал вот что:
– У Каддарда был самый сильный дар в нашем роду, да и на всех западных холмах, пожалуй. Самый сильный, какой помнит наша история. Каков наш дар, Оррек?
Я перестал работать, сошел со своей подставки – осторожно, потому что для меня она была очень высокой да еще и стояла лицом к отцу.
Когда он произнес мое имя, я встал и замер, глядя на него: так я делал всегда с тех пор, как себя помню.
– Наш дар – это разрушение связей, – сказал я.
Он кивнул. Он всегда был со мною снисходительно-нежен. У меня никогда не возникало ни малейшего страха, что он может причинить мне хоть какое-то зло. Подчиняться ему хотелось не всегда, однако, подчинившись ему, я всегда испытывал несказанное удовольствие. И наградой мне всегда служила его удовлетворенная улыбка:
– И что это значит?
Я ответил так, как он учил меня:
– Это значит, что мы способны погубить, разрушить, уничтожить любые связи в человеческом теле и в любом предмете.
– Ты видел, как я применяю свой дар?
– Я видел, как ты заставил плошку разлететься на мелкие кусочки.
– А ты видел когда-нибудь, что я могу сделать с живым существом?
– Я видел, как ты посмотрел на иву, и она стала черной и совсем мягкой.
Я надеялся, что на этом он и остановится, но на этот раз он почему-то все продолжал задавать свои вопросы.