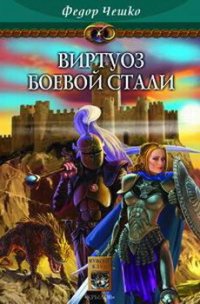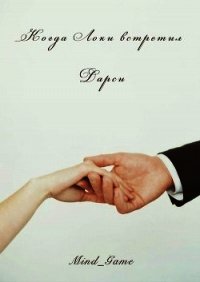В канун Рагнарди - Чешко Федор Федорович (книги онлайн полные версии бесплатно TXT) 📗
3. ЧТОБЫ КАМЕНЬ ЗВЕНЕЛ ОПЯТЬ
Здесь было лучше, чем в Старых Хижинах. Потому, что здесь не надо было ходить к Обрыву по вечерам. Потому, что по вечерам здесь можно было просто сидеть на шатких скрипучих мостках прямо у входа в Хижину, слушать мерный несмелый плеск озерных волн о позеленевшие осклизлые сваи и смотреть, смотреть, смотреть...
Каждый вечер здесь бывало два заката.
Потому, что Слепящее и небесные песни красок горели и в небе, и в озере, и казалось, что чернеющая полоска мостков и темнеющие островерхие кровли Хижин, обильно скалящиеся черепами немых, поднялись высоко-высоко и тихо плывут в теплом вечернем небе, и это пугало каким-то неизведанным ранее страхом — щемящим и сладким.
А потом Слепящее оседало туда, за Дальний Берег, который у озера был, и все равно, что не был, потому что не видел его никто.
И тогда гас закат, но вместо него на небо часто сходились звездные стада — сходились, чтобы кануть в озеро, раздвоиться, и вернуться обратно, и Хижины медленно плыли в пустоте сквозь рои белых огней — мерцающих и холодных — и смотреть на это хотелось без конца.
Но долго смотреть Хромому удавалось редко: Кошка возилась и хныкала рядом, за тонкой, обмазанной глиной тростниковой стенкой, ныла, что ей одной холодно, скучно и страшно, что пол под ней очень скрипит и, наверное, сейчас провалится, что Прорвочка опять проснулась (будто Хромой и сам не слышит ее писка) и, наверное, хочет есть, а Кошка кормить ее ну никак не может, потому что больно, и пусть Хромой придет и хоть раз покормит сам, тогда он узнает, каково ей, Кошке, приходится, как ей больно и плохо, и никто ее не жалеет, вай-вай-вай-и-и-и!..
И приходилось лезть в темную духоту Хижины, гладить по голове, уговаривать, что не может он кормить Прорвочку, пробовал уже, не получается, что все говорят: кормить должна Кошка, у всех так.
И Кошка кормила, хныкая, жалуясь неизвестно кому на его, Хромого, лень и неспособность к такому простому.
А потом Кошка засыпала, пристроив укутанную в шкуры посапывающую Прорвочку у Хромого на животе, уткнувшись ему под мышку, и Хромой дремал — чутко, не шевелясь, боясь захрапеть, боясь потревожить обеих. Он только тихо рычал изредка, когда кто-то неведомый проплывал под хижиной, задевая шаткие сваи.
В тот вечер Хромому тоже не удалось досмотреть закат. Помешал Щенок. Он подошел — сгорбившийся, дрожащий, постоял поодаль, прижимая к грязной груди крепко сжатый ободранный кулак, заискивающе поморгал слезящимися глазами: а вдруг не прогонят? Выждав, присел неудобно и настороженно, готовый при малейшем признаке неудовольствия Хромого отпрыгнуть и убежать. Но Хромой неудовольствия не проявлял. Станет он замечать всякую дрянь!
Щенок был дрянью, потому так и остался Щенком, несмотря на изрядную уже плешь и стертые зубы. Пока был жив Однорукий, он был Щенком Однорукого, теперь же, когда об Одноруком забыли, стал просто Щенком. Был он слаб и жалок, как Однорукий, и был он вечным посмешищем, как Однорукий, но Однорукий был умный, и об этом помнили, пока он был жив. А Щенок был глуп, как щенок.
Единственно, что было в нем примечательного, так это умение исчезнуть с поразительным проворством за мгновение до того, как станет опасно. Хижины у него не было, и спал он над водой прямо на сыром промозглом настиле, цепляясь за него во сне удивительно прочно; и часто ему приходилось спать у самого берега, потому что дозорные снимали по вечерам мостки, как только к Хижинам возвращались последние из Людей, а где будет ночевать Щенок их не волновало. Но почему-то Щенка никто не ел. Может быть потому, что он был невозможно костляв, — питался ведь всякой дрянью, обгрызенными многими до него отбросами и скудными подачками в редкие для племени сытные дни.
Некоторое время они сидели молча, и Хромой смотрел на закат, а Щенок смотрел на Хромого. Потом Щенок тихонько всхлипнул. Безрезультатно. Всхлипнул еще раз — громче, жалостнее. Хромой чуть повернул голову, разлепил брезгливые губы:
— Э?
Щенок едва заметно придвинулся, задышал часто и прерывисто, не смея еще надеяться, что Хромой снизошел слушать:
— Могу говорить?
— Говори, — Хромой снова отвернулся, зевнул длинно и громко. — Или не говори. Мне одинаково...
Щенок зажмурился, с присвистом вздохнул, дрожа от осознания собственной наглости:
— Хромой... Хромой добрый к слабым. Хромой... сделает нож? Мне — сделает?
Хромой повернулся к нему всем телом, выпучив глаза и приоткрыв рот в беспредельном изумлении:
— Зачем?
— Я слабый. Будет нож — буду сильным.
— Ты глуп, — Хромой овладел собой, скривился презрительно. — Ты не понял. Я соглашусь. Стану делать. Придут Люди. Спросят: «Для кого?» Я скажу: «Для Щенка». И они будут смеяться. Они скажут: «Ты заболел головой».
Щенок неуклюже поднялся, спрятал за спину все еще стиснутый до белизны в пальцах кулак:
— У меня есть... Ни у кого нет, а у меня — есть... Он красивый. Красивее всего. Сделаешь нож — отдам...
— Красивый — кто?
Щенок отступил на шаг:
— Не скажу. Сделай нож — тогда...
— Ты глуп, — Хромой с брезгливым интересом рассматривал Щенка. — Ты — слабый. Я — сильный. Отберу. И не будет у тебя ничего. Ножа не будет. И этого, в кулаке — тоже не будет.
— Не отберешь, — Щенок отступил еще на шаг. — Убегу. Я — быстрый. Ты — хромой. Не догонишь... — Но в голосе его, дрожащем, жалобном, уверенности не было.
— Ты — быстрый. Бегаешь быстрей меня. — Хромой не сводя со Щенка насмешливых глаз, просунул руку за полог Хижины. — Там копье, — пояснил он. — Полетит быстрее, чем ты бегаешь. Догонит.
Слезы ручейками потекли по заросшим дрянным волосом впалым щекам Щенка. Он дернулся было бежать — передумал, остался на месте, моргая испуганно и жалко. Потом медленно, оседая на трясущихся, ослабевших ногах, придвинулся к Хромому, разжал потную ладонь:
— Вот. Хромой добрый — не обидит слабого.
Хромой глянул заинтересованно, не понял, вскинул недоумевающий взгляд на Щенка. Ему показалось, что тот слишком долго и сильно сжимал кулак, так сильно, что порвал кожу ногтями. Но кровью не пахло. Хромой вгляделся внимательнее, осторожно дотронулся. Снял непонятое с трясущейся ладони Щенка, поднес к глазам.
Камень. Маленький, гладкий. Как галька. Щенок взял из реки? Темный. И алый. Снаружи — темный, глубоко внутри — алый. Хромой недоверчиво пощупал камень. Маленький... Вгляделся в него снова — глубокий. Как озеро... Так бывает?
Щенок навалился сзади, сопел, впившись завороженным взглядом в алую искру то меркнущую, то вспыхивающую вновь:
— Протяни к Слепящему, — прерывистый шепот его был жарким и влажным, он неприятно щекотал ухо, но Хромой, не выказав раздражения, не отстранившись даже, послушно вытянул руку к пылающему закатному зареву. И дернулся вдруг, завизжал в бессловесном восторге, как детеныш, как маленький. Как щенок. Потому, что в пальцах его вспыхнул теплым алым сиянием маленький кусочек заката. Настоящий, живой. Свой.
Щенок громко всхлипнул над ухом, и Хромой опомнился.
— Не погаснет?.. — он коротко глянул на Щенка и поразился — такой бесконечной тоской полнились эти пустые и тусклые обычно глаза, в которых дрожали теперь жидкие отсветы невиданного камня...
Щенок судорожно вздохнул, приходя в себя, отодвинулся, мотнул головой:
— Нет. Днем еще красивее. И ночью. Если огонь...
Хромой резко встал, исчез в Хижине, завозился там, загремел чем-то у самого входа. Щенок сделал было неуверенный шаг следом — не посмел, остановился, прижав кулаки к груди, рот его искривился в горькой обиде: обманули...
Он тихонько заскулил, не сводя с задернутого полога набухающих слезами бессилия глаз. Но полог качнулся, и Хромой появился на мостках вновь, прижимая к груди тяжелую скомканную шкуру. Не глядя на шарахнувшегося Щенка, бросил свой сверток на гулкий жердяной настил, сказал отрывисто:
— Выбирай.
Щенок присел на корточки, глянул. Ножи. Из камня. Столько, сколько пальцев на руке, и еще один. Крепкие, тяжелые, на прочных роговых рукоятях. Красивые...