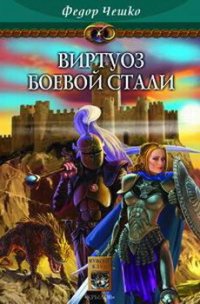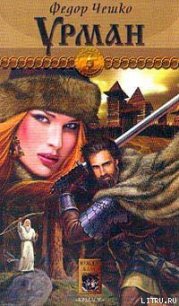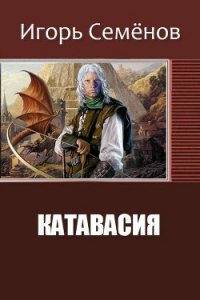Ржавое зарево - Чешко Федор Федорович (читать книги бесплатно полностью без регистрации txt) 📗
А встречи впрямь бывали только случайными.
И нечастыми.
Старик взял за обыкновение уединяться в кузне. Временами из-за плотно притворенной двери раздавались частые удары металла о металл — так могло продолжаться с утра до вечера (а иногда и с вечера до утра); временами через дыру в кровле и сквозь всевозможные щели сочился тяжелый сизый дым — Жежень только диву давался, как старик управляется в одиночку и как исхитряется не удушить себя, вздувая горн при накрепко затворенных оконницах.
Чаруса обходился без помощи, злобно гнал прочь жену, пытавшуюся носить ему в кузню съестное, а когда изредка выбирался из затворничества, домочадцы шарахались от его мрачного закопченного лица и не по-людски пустого взгляда.
Жежень решил, будто хозяин пытается самолично, даже без намека на чью-либо помощь, сработать что-нибудь ЭТАКОЕ: чтоб, значит, самому себе доказать, что он умелистее своего не по сопливым летам нахального закупа. Только, судя по Чарусиной мрачности, ничего из этой затеи не получалось.
Парень даже не злорадствовал.
Тягаться умелостью с Жеженем для старика безнадежнее, чем пытаться присесть к самому себе на колени. И если он — старик — до сей поры безнадежность эту не осознал, то что ж, пускай его тужится. Помогите, боги, змеюке протянуть ноги…
Негаданному своему безделью Жежень сперва обрадовался. Златоумелец Чаруса сделался очень уж славен трудами своего подручного закупа, а потому у этого самого подручного в нынешнем году было много работы… Миг коротенький, чтобы пот со лба утереть — и то не вдруг улучишь.
Но прошел день, другой; парень вроде бы отоспался и за былое бессонье, и за еще одно такое же — впрок… На третий день ничегонеделание перестало казаться даром богов, а на четвертый вконец опостылело. Еще и погода такая, что нос из-под кровли не выткнешь… Впору было хоть к Чарусихе набиться помогать по хозяйству, чтобы чем-то руки занять. Но после давешней ругни Жежень старался как можно реже попадаться на хозяйкины очи, для чего насовсем перебрался в стайню.
Что ж, в конце концов занять руки — это не главное. Куда важней придумать занятие для дуреющей от безделья головы. Да-да, очень трудно УСПЕТЬ выдумать занятие для дуреющей от безделья головы до того, как она сама найдет, чем заняться.
Жежень не успел.
Интересно, почему шустрее всего на ум лезут самые тоскливые, безрадостные и безысходные раздумья Да вспоминания? Хоть прошено, хоть непрошено, хоть даже остатки сил надрываешь, припоминая лучшее из пережитого (припоминая же, не выдумывая!), а вместо этого из каких-то пакостных глубин души поднимается муть, копившаяся там с самых ранних, полузабывшихся уже лет.
Может, въевшаяся в привычку Жеженева тоска давным-давно перегорела бы до легкого пепла, и развеялся б тот пепел по ветру без следа и остатка… не будь у парня возможности постоянно бередить-растравливать память. А возможность имелась — та самая златая немцовская водяница, из-за которой Жежень угодил в закупы.
Кой прок шарахаться да прятаться от нынешней Вятичихи, если прежняя Векша, которую так хочется позабыть, хранится в увесистой замшевой лядунке у тебя на груди?
Ведь именно с Векши лепил Жежень восковую заготовку, по которой потом сработал отливку, заказанную немцем.
…Они забились в густой ракитник над самой водой, и Векша никак не могла усидеть спокойно — то комары да муравьи ее донимали, то вдруг мерещилось, будто кто-то подкрался, подглядывает… Жеженю работалось легко как никогда — почему-то не мешали ему ни Векшина непоседливость, ни предвечерний меркнущий свет, ни мельтешащая по девичьей коже прихотливая путаница теней от тревожимых ветром ракитных листьев. А когда парень окончил разглаживать воск и попробовал огладить нечто более упругое, теплое да желанное, Векша расквасила ему скулу и пустила кровь из носу…
А потом он лежал на спине, блаженно глядел в подпаленное закатом бездонье; забывшая одеться Горютина дочь, низко склоняясь, деловито прикладывала к ссадинам на его лице какие-то разжеванные в кашицу листья, и твердые девичьи соски раз за разом касались его расхристанной груди, еще не успевшей толком просохнуть после запойной работы…
А потом почти случилось то, что по сию пору продолжает грезиться в мучительных снах о несбыточной небыли… Наверняка уже должно было это случиться, но тут…
Жежень еще ничего не успел сообразить, как Векша вдруг с писком выбарахталась из-под него и схватила первую подвернувшуюся одежку, торопясь прикрыть ею… нет, не наготу свою, а то, по чему легче всего было бы опознать дочку отщепенца Горюты — лицо да огненно-рыжую расплетенную гриву. И в тот же миг закачались-раздвинулись ветви, просунулась меж них мрачноватая чернобородая рожа и унылый голос вопросил:
— Слышьте, ребяты, тута телушки не пробредали? Пегие они такие, числом их три, у одной еще роги книзу повывернуты, а у другой рогов вовсе нетути…
Мужичонка долго бы вспоминал всякие-разные приметы пропавшей скотины (морща лоб, для уточнений то и дело окликая своего покуда невидимого сотоварища), но Жежень наконец опамятовался и, зверски оскалясь, вскочил на ноги. А потом… Да, уж те-то двое, небось, не смеют болтать, будто бы сын кузнеца Жеженя Старого не умеет драться! Без малого полверсты гнал он мужиков, ошалелых от внезапной свирепости голого тощеватого парня. А когда вернулся — гордый, запыхавшийся, — Векши уж след простыл…
И после всего этого нужно было отдать водяницу толстобрюхому немцу?! Да хвост поперек хари ему, свиноглазому!
Только все чаще и чаще Жежень распоследними словами клял себя за то, что решил сохранить Векшино подобье. Оно б еще и нынче не поздно. Отдать, продать, переплавить, выкинуть в омут… Что угодно сотворить с трижды по трижды проклятой блескушкой, лишь бы освободиться от власти злобного, душу выпивающего ведовства под названием память.
Но вот беда: недоставало Жеженю для такого освобождения ни сил, ни решимости.
Корочун когда-то сказал: «Есть на свете такие люди, для которых счастье — быть безысходно несчастными». Неужели дряхлый хранильник Велесова капища прав? Наверное, да.
…А та, последняя… то есть первая встреча с нынешней, вернувшейся Векшей, встреча, которой так желал и боялся — когда она случилась-таки? Четыре дня назад? Пять?
Жежень сидел тогда в стайне, на куче недоеденной скотиной травы — сидел съежившись, уткнувшись подбородком в согнутые колени. К телу противно липло измызганное полотно каждодневных штанов да рубахи, нечесаные волосы свешивались на глаза, только он и сквозь эту спутанную темно-русую занавесь видел облитую теплым сиянием крохотную девицу, дразнящую тугим выгибом золотого обнаженного тела, насмешливой полуулыбкой, вольным разворотом округлых плеч. Вроде бы сильны они не по-девичьи и вместе с тем прямо-таки умоляют о крепком защищающем объятии мужеской надежной руки… Не немцовскую водяницу с рыбьей холодной кровью — свою судьбу, собственную недоброй власти богиню сработал Жежень в черный проклятый день.
И когда вдруг с тягучим скрипом распахнулась крепкая дубовая створка (дверь — не дверь, ворота — не ворота) и в полутемную стайню хлынул замешанный на сырости свет безрадостного тусклого дня, когда в открывшийся проем осторожно вступила ОНА — живая, настоящая, из упругой горячей плоти…
Прав, прав был старый волхв с Идолова Холма.
Осознав, кто именно замер в нерешительности на пороге, Жежень обрадовался. Не тому, что это она, настоящая, а тому, что застала она его перед проклятым золотым идольцем.
Застала.
И конечно же, с единого взгляда все поняла.
И наверняка пожалела.
Не о выборе своем, как мечталось прежде, как виделось в недавних сладостных снах — нет, она его, Жеженя, пожалела. А ведь раньше казалось, будто бы чем такое, то лучше б уж во вздутый плавильный горн головою… и самому, и ее…
Векша изо всех сил старалась не глядеть на золотую себя (хоть парень чувствовал, что Горютиной дочери очень-очень хочется взять в руки и как следует рассмотреть, какою она была почти три года тому назад).