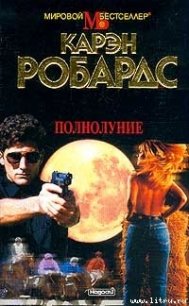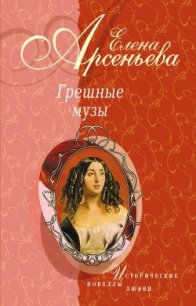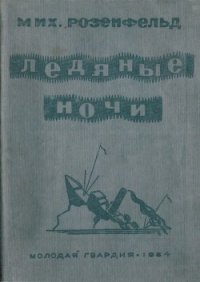Аид, любимец Судьбы (СИ) - Кисель Елена (читаемые книги читать .TXT) 📗
Гелиос сказал. Он мне много чего наговорил – он вообще любит разговаривать, и «вот так – и навстречу» – единственный путь, который он признает. Прям и светел, как колея его колесницы.
– Крон – тьма, – просто сказал он как-то. – Я ж люблю вниз посматривать: много чего рассмотреть можно. Кто ссорится, кто мирится – скучно, сам понимаешь, весь день в колеснице… А одному приходится мотаться: другие-то не выдерживают! Так вот, насмотрелся я… на его правление. Людей-то, которые Золотого века – ты не видел? Ну да, ты ж тогда в брюхе у него с остальными. А они были при Уране, люди – мудрые, красивые, и мы к ним советоваться ходили, пировать у них любили. Ну, и… пришел Крон. Править. И чем они ему не угодили, а только… Кто из людей жив остался – тот скрылся куда-то, говорят, духами по земле носятся, зло карают. А может, и нет. А только я насмотрелся – мне-то нельзя вместе с тьмой, сам понимаешь…
Понимаю. Даже с Нюктой-ночью ты торопишься разминуться, второй учитель. Ты не терпишь черного, и мой гиматий у тебя неизменно вызывал грустные вздохи – счастье, что ты не умеешь долго грустить. Ты учил меня удерживать вожжи, и правильно стоять, и вскакивать в колесницу на ходу, заставляя ее словно замереть перед собой – я правил не золотой, как у тебя – бронзовой, черной, такая нашлась в запасниках у тельхинов на Родосе[3]. И чернота этой бронзы тоже заставляла тебя хмуриться.
Посейдону, который бывал у тебя чаще, чем я, ты сказал как-то обо мне:
– Это у него не пройдет – не пытайтесь. Кронова тьма в крови, да еще и просидел там один невесть сколько…
– Он не один сидел, – заметил Посейдон, потом вспомнил что-то и умолк.
Улыбаться менее широко мне Гелиос не стал даже после того, как понял, что я слышал их разговор.
– Невидимка, – и тяжелой ладонью по плечу, как всегда – в знак приветствия. – Вот как раз речь и была… что ж нам с твоей упряжкой делать?
С упряжкой долгое время было худо: те крылатые кони, которые так отчаянно ластились к Посейдону, хрипели и пытались цапнуть меня, если я делал в их сторону хоть лишний шаг. Я не говорю уж о Беле, Лампе, Пирое и Бронте – к этой возящей солнце четверке я попросту не приближался. Они ненавидели меня, как я – яркий свет.
С другими дела обстояли ненамного лучше: в конюшнях Солнцеликого было достаточно лошадей, и почти каждая пара заставила меня вспахать колесницей и носом землю.
– Ну-ка, глянем… – он обожал проводить время в конюшнях и тащил нас туда при первой возможности, а с тех пор как ожеребилась Бронта, показ ее потомства всегда сопутствовал нашим визитам. – Вот Иао… глаза видишь – огненные? Понесет так понесет. Крылья пощупай. Вырастет – размах будет на пол-Урана. Сотер вот – он поспокойнее… как, уже цапнул? А я-то думал, он к тебе привык. Абраксас… эгей, Посейдон, ну-ка успокой его, нрав у него – как у твоего брата… да не у тебя, Аид, у кроноборца нашего: если уж решит с кем разделаться – так до конца. Эой – божественный жеребец, навоз – и тот амброзией отдает, только вот хитрущий и тебя, кажется, невзлюбил.
– Со многими так.
– Это он лесть любит. Чтобы ласково с ним говорили, гладили, ласкали – ну, а ты… да.
– А в том стойле? – я кивнул туда, где раньше было тихо, а теперь оттуда доносилось хрипение и ржание – притом, стойло явственно ходило ходуном.
– Стеропа принесла, – Гелиос, помрачнев на миг, кивнул на другое стойло, откуда высовывалась лукавая и чуть виноватая морда крылатой кобылы. И где так летала – непонятно, а только вляпалась в Уранову кровь, а это – сам понимаешь…
Я понимал. Плодородную силу этой крови мы узнали, когда толпы нимф и наяд препроводили на Олимп рожденное из пены божество, которое заявило, что оно – любовь. Златоволосая любовь оказалась шумной, смешливой, мгновенно заставила позеленеть с лица Деметру и окончательно скиснуть Метиду – а еще встретила мое появление кратким, но выразительным «Бррр».
– Понесла, – говорил Гелиос по пути к обширному, сработанному из железного дуба стойлу. – Наплодила шестерых ублюдков: двое друг друга сожрали, а остальные четверо как-то договорились. Посейдон, выйди-ка вперед, на тебя не кинутся. В одном стойле держу, отпускать – покалечат кого-нибудь, убивать – не могу… ну, сам понимаешь. Думал, может, сожрут они друг друга совсем, нет, вместо этого вымахали за год… а, так вы же год у меня и не были? Ну, глядите!
И легко сдвинул перегородку, которая закрывала это стойло от остальных.
– Красавцы! – охнул Посейдон, и в воздухе тут же клацнули мощные челюсти. Что-то, скрытое от меня плечами брата, пыталось брата поприветствовать не лучшим образом. Посейдон отступил на шаг, и восемь горящих глаз уперлось в меня. Четыре лоснящиеся морды зафыркали и захрапели, оскаливая молодые зубы. «Ублюдки» еще не вошли в самый расцвет лошадиных сил, но мощные мускулистые спины, тонкие породистые ноги, крутые шеи, блестящие гривы…
Вся четверка блестела, будто была отлита из черной смолы. Не были черными разве что зубы – которые лязгали в опасной близости от моего лица.
Я смотрел. Молча. Одна пара глаз против четырех. Горячее дыхание того, что чуть было не укусил Посейдона, обожгло щеку, еще раз лязгнуло – над самым ухом. Тогда неспешно поднял кулак.
Ласка им точно была не нужна – слишком горды, чтобы принять ее. Зато силу они понимали.
– Ну, так я и думал, – вздохнул Гелиос, когда самый высокий ткнулся мягкими губами мне в плечо. – Масть признали. В моей колеснице идти не хотели, а в черной и с таким возницей – пойдут. Двух берешь?
Я помотал головой: выбери пару – и тебе этого не простят. Лошадиные глаза тоже могут быть говорящими.
– Так и думал, – повторил Солнцеликий. – Ты учти – крыльев у них нет. А носятся – будто есть. Раз выпустил – всем двором загонять пришлось…
И точно, носятся они на загляденье… несутся, далеко опережая колесницу Гелиоса, неспешно выезжающую в небо. После двух дней пути – не касаясь копытами земли, норовисто всхрапывая, будто от избытка сил, делая вид, что чересчур уж застоялись…
Будет, четверка. Вы устали, не могли не устать, я тоже, и то, что Олимп, а значит, отдых – в двух шагах, почти вызывает улыбку.
Если бы за эти годы я не отучился улыбаться окончательно.
Ты не помнишь, Аластор? Никтей? Когда успели пройти годы? Их словно смыло невидимым потоком, и я уверен, что не обошлось без происков отца: он превратил свое нынешнее убежище, гору Офрис, в крепость, он окружил себя союзниками и осмеливается править, а мы…
Что мы? Мы лишь немного улучшили интерьеры Олимпа.
Когда я говорю об этом, меня называют брюзгой.
Все-таки – неужели пятьдесят с хвостиком? Это сколько же раз всходил-нисходил Гелиос, а я почти ничего об этих годах и не помню: сперва привыкал… потом какие-то мелкие заботы, союзники, поездки, переговоры, стычки с кентаврами, стычки с титанами, какой-то божок пытался обесчестить Гестию прямо на пиру, спасибо – вовремя заорал чей-то осел… Помню явление Афродиты – мельком – кутерьму, когда на Олимпе нежданно-негаданно объявились Мойры, которые, оказывается, до нас тут были… помню, что та – ну, Рея – начала скатываться в безумие, и меня послали ее искать, это отняло годы. И ведь зря послали: только увидев меня, она сошла с ума окончательно, кинулась в волны Океана с пронзительным криком: я знал, кого она во мне видит… Потом были долгие переговоры с Океаном, и теперь Рея где-то на краю света – скитается под присмотром подруги-Фетиды.
Теперь еще эта поездка – одна из многих. И не перестающее стучать в горле «будет».
Четверка легко втащила колесницу на Олимп, и я шагнул на землю уже у бывшего отцовского дворца – а теперь дворца Кронидов.
В коридорах стало гораздо уютнее: постаралась Гестия. Тепло дома дышало из грубо отесанных камней, заставляло расслабляться плечи.
«К морю бы? – наивно подсказало тело. – На часок. В бухточку, к Левке, а? Так, посмотреть, что там переменилось…»
Я т-тебе! Представил черные куски крайней плоти Урана, которые видел, пока путешествовал – замечательное действие отрезвления. Ты кто? Посейдон? Зевс? «У нас война, пошли по нимфам»? Ну, и нечего.