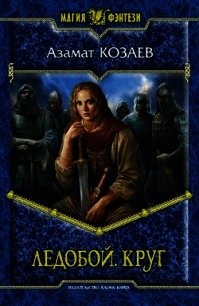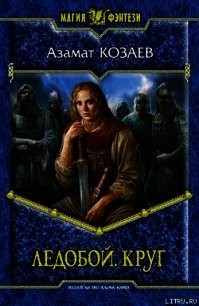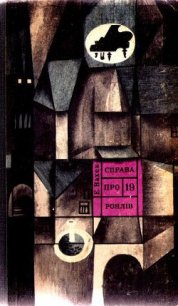Ледобой. Зов (СИ) - Козаев Азамат (книги без сокращений .txt, .fb2) 📗
— А ведь знаю я эти песни. У нас тоже есть такое предание.
— Да и я знаю, — Стюжень досадливо махнул рукой. — Только не устаю оттниров благодарить за то, что вовремя со своей песней на глаза выкатились. А то я долго ломал бы голову, отчего после полуночного ветра Сивый звереет, придурков голыми руками пополам рвёт, а твари огнём ссутся, едва в глаза им посмотрит. Иной раз дома, у себя под носом не видишь, а на чужбине само тебя находит.
— Ну да, — согласно кивнул потайной. — Старое предание. Почти забытое.
— Старое, старое, — верховный запустил руки в седины, собрал в ладони, потом разгладил, а один вихор, особо длинный упал на глаза, но поправлять его старик не стал, так и глядел на Пряма из-за чуба. — Такое старое, что позабыть успели, а я, дурень ветхий, сразу не сообразил.
— Там ещё было, — воевода, морщась в потугах припоминания, легонько махнул за спину, — Ну…
— Ага, было. Что-то про цену, которую платишь полуночному ветру. И цена — вовсе не помутнение рассудка. И не возможные утраты от собственного буйства. Что-то другое. А что именно — не поют.
— Н-да, суров хозяин Полуночи, — Прям скривился. — Мало того, что в припадке можешь кого-нибудь рядом удушегубить, так ещё и платишь чем-то. Врагу не пожелаешь.
— Вопрос — чем платишь? Хотел, чтобы пожил Сивый у меня, глядишь, разобрались бы. Только времени больше нет.
Прям, хмурый, ровно грозовая туча, разлил остатки браги, выглянул на старика.
— Знаю, заканчивать нужно благожеланиями хозяину, но… — встав на ноги, потайной задумчиво огладил бороду. — Хотя это и есть тебе здравица. И Сивому, и Отваде. За нас хочу выпить. За тебя, за меня, за Безрода, за князя. За всех, кому мы готовы пожать руку и при взгляде на кого не воспламеняется в желудке чувство гадливости. Мы с тобой ближе к боярам, чем к хлебородам, да собственно, мы с тобой и есть бояре, но теперь, когда над страной висит чёрная туча, гляжу я на людей и бью на две дружины. Вот смотрю на того, на другого и думаю, а ты, мил человек, как спасаться будешь, в одиночку или все вместе? Сороки да Шестки — в одиночку, это я точно знаю. Шкура цела, золото блестит, в глаза солнечным светом брызжет — да и ладно. Ну, назовут тебя не бояном, а оттниром, или хизанцем, да и ладно. Боянские песни враз позабудут, новые выучат, да и ладно! Жизнь ведь продолжается! А я так не могу. Мне чем добровольно боянское в себе удушить, лучше под меч голову сунуть. Хлебород иной раз глядит на нас с тобой косо, мол, с золотых блюд едим, серебряными ложками варево хлебаем, около князя отираемся. Наверное, имеет право. Но, честно говоря, мне пахарь ближе, чем эти мрази.
Стюжень кивнул, потянулся вставать, вырос над Прямом на голову и согласно поднял чарку.
— Ну-да, поём-то мы всё простые песни. Пахарей, рыбаков, рукоделов. Ни одну боярскую не припомню. Старый, наверное, стал, с памятью беда…
Глава 44
— Таких парней сгубил! — Косоворот, сверкая глазами, налитыми пополам кровью и брагой, буравил в Пряме дыру и едва лбом не бодал. — И ведь ничего не нарыл! Ни-че-го!
Воевода потайной дружины пьяно качал головой, время от времени щурился, ровно не узнает собеседника и пытался утвердить чарку на столе, а она, сволочь, не вставала ровно. Всё кренилась на ребро донышка и плескалась яблоневка на стол, застеленный расшитым полотном.
— Д-должно что-то б-быть! — Прям полез вставать, не удержал равновесие, завалился на Косоворота. — Я тебе не ш-шаляй-валяй! Воевода потайной дружины! Сказал «виноват», значит ви-и-иноват!
— Может Сорока подельников назвал? — не унимался Косоворот, ещё чуть, быком набросится, затопчет, раздавит. — Может Шесток доказательства сдал? Ну хоть что-нибудь покажи, костолом ты недобитый!
— Тс-с-с! — Прям сунул палец к губам и неуклюже повалился на скамью. — О делах ни слова. Мы на п-пиру, как никак! Пей, в-веселись, Косоворот!
Потайной выпустил чарку, мгновение или два осоловело водил взглядом по сторонам и со стуком уронил голову на стол.
— Пьянчук ты, а не воевода, — зло бросил Косоворот, кивая на Пряма Лукомору, а тот презрительно плюнул в спящего.
Гуляли на широком княжеском дворе. Отвада сидел мрачный, насупленный, и даже развесёлая яблоневка его не брала — проваливалась в утробу, ровно вода, и без следа пропадала. А на ком-то со следами: через одного пирующие хохотали, через второго сверкали багровыми от возлияний лицами, через третьего клевали носом. Стюжень сказался больным и на пир не явился, на площадь перед теремом носа не казал, но издалека, в просвет между баней и складами видел если не всё, то многое.
— Кому беда, а кому мать родна, — верховный усмехнулся и презрительно скривился.
Там, в просвете между баней и складом, Косоворот и Лукомор чего-то остервенело требовали от Пряма, но ответа, похоже, не добились. Потайной сдался бражке и мало по столу не растёкся, лицо уж по столешнице развёз точно, как тесто. Ржач стоял такой, что если бы мор, властвующий за стенами Сторожища, вдруг овеществился, обрёл тело, да с постной рожей явился на пир, честное слово, удавился бы с досады. Ну какие язвы на лицах? Ну какая к мороку вонючая, зелёная слизь? Какой к Злобогу жар, спекающий нутро в пепел? А на-ка тебе песни, бражку и веселье, затолкай всё в глотку, да и сдохни сам. Мор, уморись к мраку!
— Дядя Стюжень, а ты чего не там? — Зарянка подошла сзади, кивнула на просвет между баней и складом. — Наши изо всех сил мор гонят, духом не сдаются, поддержал бы.
Верховный оглянулся. Неслышно подошла, нежная и бесшумная, как тень, на руках младший спит.
— Давай-ка мальца сюда, — старик протянул руки. — Тяжёленький уже, долго так не проходишь.
Княжич только пузырь сонный пустил.
— Опасно тут становится, — Стюжень внимательно оглядел Зарянку, держится? — Схорониться бы вам надо.
— И оставить его одного? — она с вызовом гордо выпятила подбородок, мотнула головой на площадь перед теремом.
— Грозила бы мне большая сеча, я от такой подмоги сам сбежал бы, — старик невесело рассмеялся, дунул в личико спящего мальца. — Это же меч в руке не удержится, как начнёшь думки думать. Где они? Как они? Цели ли?
— Он останется один, — упрямо повторила Зарянка, но голос чуть дрогнул.
— Приходим в мир одни и уходим одни, — верховный пальцем снял слюнки малышу, вытер о рубаху. — И не один он будет. Ну… разве что ночью.
Княгиня зарделась и опустила глаза.
— Хочешь помочь, всели уверенность, а уверенность воя — безопасное убежище для родных, пока лихо кругом. Сама ведь понимаешь.
— Понимаю, — тихо произнесла Чаяновна. — А если плечо подставить, утешить нужно будет?
— Плечо сами подставим, брага тоже утешает неплохо, а вот по ножке ночью, извини, гладить не будем, — старик усмехнулся. — Обойдётся.
Зарянка всхлипнула, шмыгнула носом, отвернулась. Верховный не наседал, не торопил. Сообразительная, сама всё понимает.
— Куда ехать?
— В потайное место, — старик двумя пальцами за подбородок развернул её лицо к себе, утёр две слезы, готовые вот-вот скатиться с ресниц. — Небось, не забыла ещё, как в прятки играть? Вот и спрячемся, пусть лихие ищут.
И бросил острый взгляд в просвет между баней и складом, где пьяный Прям вдруг встрепенулся, поднял голову и обвёл площадь невидящим взглядом. Неуклюже поднял руку и кому-то погрозил указательным пальцем.
— Видоки вам нужны? Доказательств ма-мало? Прям, думаете, ш-шаляй-валяй? Вот… вот… вот у меня где…
И сцепив пальцы в кулак, начал грозить, оглядываясь вокруг.
— Гля, пьянчук из мёртвых восстал, — Лукомор пихнул Косоворота, увлечённо болтавшего с Головачом, чьи земли легли на самом полудне Боянщины, около рубежа с млечами. — Нас что ли ищет, найти не может?
— Вот где! — Прям валко шатался и совал кулак в каждую сторону, куда его разворачивало.
Косоворот отвлёкся, недоумённо переглянулся с Лукомором и Головачом, дал знак, ну-ка подсядем ближе. Пир перешёл тот незримый рубеж, когда есть ещё стройность обряда, когда жив ещё порядок и всеобщая череда здравиц и речей слушается возницу, ровно хорошо обученный упряжной конь. Князь, мрачный и нелюдимый, молча взирал на гостей со своего места, давно отпустил дело на самотёк, внимательно слушал Чаяна, сидевшего справа, и беззвучно кивал. Ещё недавно благообразная гулянка неустрашимых воев разбилась на несколько междусобойчиков, изредка прерываемых князем, прерываемых, впрочем, всё реже и реже.