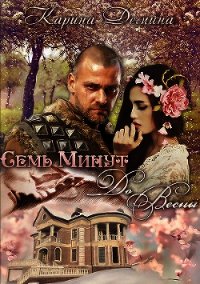Семь минут до весны (СИ) - Демина Карина (читать полную версию книги txt) 📗
…она давала кустам имена. И те, отзываясь на призыв ее, спешили радовать маму цветами, темно-красными, как венозная кровь, или вот белыми, хрупкими; цвета экрю и слоновая кость; розовый, рыжий и бледно-золотистый, который только-только посадили.
Пережили ли розы войну?
Почему-то раньше Ийлэ о них не думала.
— Я по глупости нарвался, — пес лежал, подтянув колени к груди, сунув сложенные ладони под щеку. Глаза закрыл. Улыбался.
Кто улыбается, когда ему больно?
— Поле было… зеленое такое поле… яркое… и еще васильки россыпью… ромашки опять же… ромашки пахнут хорошо, а я… я помню, удивился, почему запах их такой яркий. Манящий. Словно ромашковые духи над полем разлили… у меня от этого запаха голова кругом пошла. Несколько лет войны, а тут ромашки, представляешь?
Нет.
Ийлэ не представляла.
Она не хотела представлять себе его поле, и слушать его тоже не хотела.
Райдо…
…кислота на языке, рвота… или слезы… или мясо, которое испортилось, и его швырнули Ийлэ, зная, что от голода она одурела настолько, что съест.
Быть может, сдохнет.
Или сбежит.
Если бы не цепь, она сбежала бы, но…
— И вот чуял же, что неладно с этим полем, а все одно сунулся. Ромашек нарвать захотел. Не идиот ли? Идиот, — сам себе ответил пес. — Помню, как зашелестело, будто змея по траве крадется. Я оборачиваюсь, а там… и вправду змея. Зеленая. Огромнющая, с руку мою толщиной будет. Поднялась, раскачивается…
…раскачивалась веревка на заднем дворе. Привязали ее к столбу, а в веревку сунули папу… и ветер шевелил тело, отчего казалось, что папа еще жив.
— …а наверху шар распускается. Цветок такой. Желто-лиловый, как… не знаю, как что… здоровый, но красивый… я на него пялился. Веришь, видел, как трещины идут, и как иглы проступают, и как лопает он тоже видел… мне говорят, что невозможно, что воображение, но я-то знаю.
Он замолчал, сглотнув слюну, и Ийлэ мысленно пожелала псу подавиться.
Пожелание не сбылось.
— И видел, как летят… семена, да?
Семена… отец говорил, что живое — священно. И в силу разума верил, и в то, что война, она где-то там, вовне… какая война в городе, где на площади высаживают сортовые тюльпаны?
— В себя я уже в госпитале пришел… вытащили… сказали, повезло… нет, во мне оно осталось, и вытащить его никак, но все равно повезло… живой же… еще немного живой.
Он замолчал и молчал бесконечно долго, а Ийлэ слушала срывающееся его дыхание, в котором явно слышался весьма характерный клекот: легкие пса медленно заполнялись кровью.
— И ты жива… еще немного… а немного жизни, — он облизал губы. — Это уже много…
Много?
Нет. Достаточно. Правда, для чего, Ийлэ не знала.
Пес не уходил. Он не делал попыток приблизиться. Не стонал. Не проклинал. Просто лежал, вытянув руки. Ладони его были некрасивыми, слишком широкими, загоревшими дочерна. И на этой черноте выделялись белые рубцы. Он шевелил пальцами, короткими, массивными с квадратными ребристыми ногтями, и рубцы тоже шевелились, будто переползали.
Пес вздыхал.
И выдыхал резко, словно пытаясь так оборвать цикл чуждой жизни внутри себя…
Ийлэ чувствовала эту боль. И не чувствовала радости, хотя должна была. Она смотрела на руки пса, на шею его темную, на светлые волосы, остриженные коротко, и на темную кожу под ними. На шрамы. На клетчатую шерстяную рубашку, рукава которой он закатал по самые локти. На ноги и вязаные же носки.
Он был… неправильным.
И когда появился тот, молодой, Ийлэ почти обрадовалась.
— Райдо, ты здесь? Здесь, — щенок, которого звали Натом, демонстративно не замечал Ийлэ. Наверное, он надеялся, что если не обращать на нее внимания, то она исчезнет. — Как ты?
Плохо.
Это Ийлэ могла бы сказать и сама, но не сказала, но лишь подвинула корзину поближе. Отродье, проснувшись от голоса пса, заворочалось, заморгало и, открыв рот, издало тоненький писк.
— Есть хочет, — Райдо встал на четвереньки. — Надо покормить.
— Пусть она и кормит.
— Нет.
Райдо раздраженно оттолкнул руку щенка, но тот не обиделся, отступил, так, чтобы держаться рядом, но не мешать.
— Доктор…
— Пошли его знаешь куда?
Райдо ступал осторожно, но твердо.
— Знаю, — буркнул Нат.
— Вот и пошли…
— Вам плохо.
— Мне всегда плохо.
— А сегодня особенно…
— И что?
— Ничего, — Нат нахохлился. — Вам плохо, а вы тут… торчите.
— Ага, — Райдо наклонился над корзиной. — А у нее глаза серые… ты заметил?
— Заметил.
— И родинки… раз, два и три…
Три на левой щеке, одна — на правой. Круглые, выпуклые, словно бархатные. Ийлэ слюнявила палец и пыталась их стереть, еще раньше, когда родинки только-только появились и выглядели нарисованными. Отродье крутило головенкой и хныкало.
Не давалось.
А глаза и вправду серые…
— На самом деле, у детей цвет глаз вполне может поменяться, — доверительно произнес Райдо.
Да, возможно, но какими бы ни сделались глаза отродья, им никогда не быть истинно-зелеными. Да и родинки навряд ли пропадут.
— Пойдем, — Райдо поднял корзину. — Я охренеть до чего не хочу с доктором встречаться. Он вечно норовит напичкать меня какой-нибудь гадостью…
Ийлэ не собиралась идти, но…
…встала.
И Нат, сверкнув глазами, попятился, позволяя ей идти следом за псом. А может, нарочно, оставаясь сзади, чтобы контролировать каждое движение Ийлэ.
Ждал удара?
Она бы ударила… наверное, ударила бы, тем более, что спина пса, широкая и такая удобная, была рядом. От этой спины пахло дымом, стиральным порошком и немного — кровью.
Рубашка прилипла.
Натянулась.
— Почему ступеньки такие узкие? — проворчал Райдо, цепляясь за перила, которые тоже были узкими и неудобными для него. Ступеньки скрипели, перила шатались, Ийлэ же с тревогой следила не столько за псом, сколько за корзиной.
Уронит.
Он держит крепко и сам, надо полагать, опасаясь, уронить. Пальцы вон стиснул до белизны. Но рука дрожала мелко, предательски…
— Не бойся, — сказал пес, оказавшись в коридоре. А кому сказал — не понятно. — Сейчас придем… к доктору, стало быть… пусть посмотрит… пусть скажет…
Что именно должен был сказать доктор, Ийлэ так и не узнала, потому что пес покачнулся вдруг, закашлялся и, прислонившись плечом к стене, медленно по этой стене съехал.
— Пусти! — Нат оттолкнул ее, не зло, но сильно, так, что Ийлэ сама ударилась о стену спиной, и с шипением осела. — Райдо!
Пес мотнул головой.
Он пытался встать, и пальцы скребли ковровую дорожку, оставляя на грязной дорожке полосы-следы. Спину выгибал, давился кашлем.
— Райдо я… я сейчас… я доктора… — Нат вскочил и, обернувшись к Ийлэ, бросил: — Только попробуй что-нибудь ему сделать!
— Нат! — Райдо сумел открыть рот, но этим именем подавился, а может, не именем, но рвотой. Рвало кусками и красным месивом, от которого исходил характерный запах крови.
Пес отворачивался, вытирал губы рукавом, но сгибался в очередном приступе.
Нат же, переводя взгляд с него на Ийлэ, должно быть, не доверяя ей окончательно — и правильно, она бы тоже не поверила, пятился. А потом повернулся и бегом бросился прочь.
— Ш-ш-щенок, — с трудом выговорил пес.
Он отодвинул корзину, на которую тоже попало рвоты, но отродье к грязи относилось с полнейшим равнодушием.
— С-сейчас, — Райдо отполз и сам. — Пройдет.
Ложь.
Не пройдет.
Ийлэ слышала, как разворачиваются спирали побегов внутри пса. Она могла бы начертить сложный рисунок их, созданный тонкими белесыми корешками, которые пронизывали мышцы Райдо, его легкие и печень, и до желудка добрались, а следом за ними, тоже белесые в отсутствие солнечного света, тянулись стебли… и на них вызревали колючие шары семянок.
Скоро уже треснут.
Вот-вот…
…и тогда пес умрет. Он уже почти умер, захлебнулся кровью и желчью, и держится на одном упрямстве и еще на живом железе, которого уже не хватает, чтобы затянуть все раны.