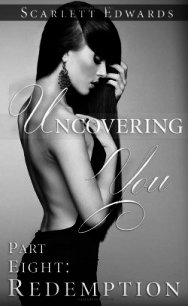Русская и советская фантастика (повести и рассказы) - Пушкин Александр Сергеевич (читаем книги онлайн бесплатно полностью TXT) 📗
Кто он? А что, если — Агасфер? Биологически, повторяю, бессмертие невозможно — это всем известно, но никто не станет отрицать долголетия, и долголетия самого феноменального. В старину ученые эмпирически открывали, несомненно, такие тайны природы, к которым мы сейчас лишь подходим. Не могло ли так случиться, что он, этот неизвестный, открыл некую тайну долголетия, а затем от того же долголетия заспал ее, как неряшливая и усталая мать, случается, засыпает, удушает насмерть своего ребенка? Прожить почти пятьсот лет?! Сколько можно видеть, слышать, чему только нельзя научиться?! Какие бы можно было написать мемуары и каким бы можно было быть преподавателем истории?! А какие бы характерные черточки он дал для сценария или фильма?!
Но когда мой спутник поднимал на меня безжизненные глаза, словно наполненные мелкой пылью, мысли мои пресекались и я направлял свой взор в окно. На проселке, бегущем вдоль железнодорожного полотна, словно пунктиром обозначая наш путь, сидели узкокрылые молодые грачи, учившиеся летать.
Молочницы, возвращающиеся из города, как известно, страдают в эту пору от мягких чувств. Они много подают певцам и жалуются на мужей. Одна из них, жгучеволосая, с длинными ковыльными ресницами, глядя на фон Эйтцена, сказала:
— Избаловались наши мужики. Сегодня — одна, завтра — другая. Уж лучше за инвалида выйти! — И она перевела свой густой взор на меня. — Верно говорю, инвалидушка?!
Спасибо этой молочнице. Если и возникла опять во мне жалость к Паулю фон Эйтцену, то она, при этих словах, быстро исчезла. Я спросил Клаву:
— Вы не отказались от вашего решения?
Она ответила с тоской:
— Нет.
И, помолчав, добавила:
— Если вы настаиваете.
Я тоже помолчал. Назвать эту худенькую, плохо одетую девушку страстной Клавдией фон Эйтцен из средневековья — не насмешка ли над ней и над собой? Но что делать, раз жизнь так сложна и так отвратительна! Я сказал фон Эйтцену:
— Клавдия фон Кеен — ваша! Она догнала вас и снимает с вас имя Агасфер. Верните мне мою жизнь.
Он взглянул на Клаву. Она наклонила голову и сказала:
— Я ничего не понимаю, но раз он так хочет…
И она опять умолкла.
Шагая по остаткам «козьих ножек», докуренных до такой степени, что не оставалось не только бумаги, но и отпечатка типографской литеры, мы вышли на площадку вагона. Мальчишки — не то ягодники, не то грибники— спрыгивали на ходу, крича: «Сюда, сюда, живее, толстопальцы!»
Начальник станции, хромой, в большой алой фуражке, передал девушке-машинисту проволочный круг, вроде того, через который прыгают клоуны в цирке. Поезд двинулся дальше, и мы почувствовали холодный сильный ветер, дующий с севера. Низкие, крупноребристые тучи бежали над чернолесьем, в которое надо было нам сворачивать.
Наш спутник стоял неподвижно. На плотном затылке его вились тонкие волосики, давно не стриженные, и меня резануло по сердцу: «Черт возьми, да ведь это мои волосики, мне многие об них говорили, хотя бы та, кто меня так любит!» И я повторил:
— Адрес вашей смерти — Толстопальцево?
Фон Эйтцен, сморщив лицо, шагнул вперед.
Странно все-таки, что ни фон Эйтцен, ни я, ни Клава и не подумали задержаться в поселке, где сна собиралась снять комнату. А я даже и не вспомнил о своих знакомых — спекулянтах, словно они здесь и не жили!
Станция скрылась в мелколапчатом чернолесье.
Травы между проселком и лесом были недавно скошены, но уже успела подняться сильная и сочная отава. Перед осинами, мелко шелестящими, за которыми и начинался серьезный бор, ели и сосны, которые если и раскачивались, то раскачивались не зря; перед осинами виднелись низко остриженные кочки, на которых отава росла, должно быть, медленнее. Три-четыре соломенно-желтых листка, даже и летом падающие с осин, небрежно лежали на этих кочках, будто кто-то щедрый забыл сдачу…
Голова моя работала теперь хорошо и ясно. Шагал я твердо и, думается, не без сознания собственного достоинства. Именно это-то достоинство и придавало реальность всему странному происшествию.
Мы прошли не более трех километров. Лес приблизился плотно к проселку. Гул ветра в его кронах был похож на дурман. Небо было затянуто капустными тучами, бело-голубовато-зелеными, несомненно предвещающими бурю. Стволы елей испускали пепельно-сизый блеск, сосны были тревожно-никелевы, а затерявшиеся промеж них березы стояли все словно в коленкоре.
Наш спутник повернул вправо, по тропинке. Помню у поворота низенький можжевельник, весь завитый в кольца. Наш спутник быстро шагал, почти бежал. Дыхание у него было ровное. Мне же дышалось тяжело, но я молчал. Я смотрел только на тучи. Мне казалось, пойди дождь — и наш спутник немедленно исчезнет в сетке дождя.
Тучи, не переводя духа, неслись над деревьями, пригибая их все ниже и ниже к земле. Сильно пахло сыростью. Мы вступали, видимо, в область болот. Появлялись заросли осоки, той едкой и колючей осоки, которую никто не косит. Горизонт суживался до размеров палисадника. Всюду трещало и выло, и казалось, будто над нами вытрясают пыль из савана.
Спутник наш шел, балансируя руками, словно по проволоке. Да и то сказать, тропинка была очень узка. Сквозь кочки и осоку просвечивали сине-багровые пузырчатые воды. Откуда эти древние вековечные болота? Под Москвой?!
Дорогой, долго еще идти? — послышался позади тихий и ласковый голос Клавы.
Не оборачиваясь, я ответил:
— Скоро.
— Скоро! — подтвердил фон Эйтцен.
Изредка на полянах шум бури стихал. Тогда мы слышали гул орудий. Видимо, неподалеку учились стрельбе артиллеристы. Впрочем, артиллерийские залпы казались треском и шумом падающих деревьев, и я невольно закрывал глаза, думая, что деревья валятся на меня.
Узкая, несколько расширяющаяся на юг просека. Сгнившие пни, покрытые великолепным фарфорово-зеленым мхом. Посредине просеки — высокий стог сена, прикрытый от дождя и ветра увядшими березовыми ветвями. За стогом — огромный, в десять охватов, дуб, лениво шелестящий тяжелой, яшмовой листвой. Казалось, он улыбается над бесплодными порывами ветра, над этими медвежьего цвета тучами с шалфейно-желтыми краями, то и дело выгоняющими из себя отростки.
Наш спутник согнулся, повернув к нам лицо. Губы его были судорожно втянуты, и такой страх был во всей его фигуре, что я отступил, хотя мне и хотелось услышать, что он бормочет.
— Здесь!
И он взглянул на Клаву.
— Узнаете? — спросил он.
— Я никогда здесь не была.
— Обманул? — крикнул я.
— Зачем, зачем мне вас обманывать? — воскликнул фон Эйтцен. — Посмотрите вон туда, на гребень, на дуб!
И он опять, почти истошным голосом, крикнул Клаве:
— Узнаете теперь?
— Да ничего я не узнаю.
— Уйдете со мной?
«Ой-ой-а-а-с-с-ф!..» — подхватил ветер.
Сверкнула молния, самого густого цвета розы. Она провела по тучам схему горного хребта, и бархатистая матовость прикрыла молнию.
Кругло, железно-выпукло ударил гром — и огромный дуб, стоявший по ту сторону просеки, величественно покачнулся. Вздох пронесся по лесу. Листва дуба с горьким шумом упала на стог и скрыла его под собою.
Фон Эйтцен бросился, вытянув руки вперед, через просеку, к дубу. Пояс, перетягивавший его грязную гимнастерку, поднялся почти под мышки. Не знаю почему, но этот брезентовый пояс возбудил во мне ярость. Я схватил моего спутника за пояс и, несмотря на то что противник мой, был выше и тяжелее меня едва ли не в три раза, откинул его в сторону, и он упал среди кочек.
— Держи его, милый, держи! — слышал я рядом с собой голос Клавы.
— Не убежать, шалишь!
Дуб лежал, вытянув кверху толстые, цвета густой умбры, корни. Они еще трепетали, и с них сыпалась мокрая земля.

В глубине, между вывороченных камней, я увидал продолговатый, обитый по краям медью, сундучок, несколько похожий на старинные кожаные футляры, в которых некогда хранились ценные охотничьи ружья. Сундучок при падении дуба, должно быть, сдавило камнями или землей, и, когда я наклонился к нему, я разглядел трещину, пересекавшую его вдоль. Я прикоснулся. Сундучок распался надвое. Выкатился небольшой меч и длинная синяя сумочка, плетенная из металлических колец. Внутри сумочки что-то поблескивало.