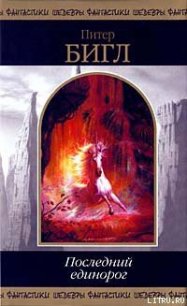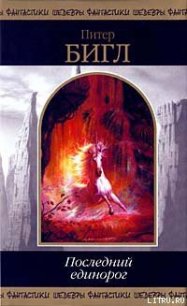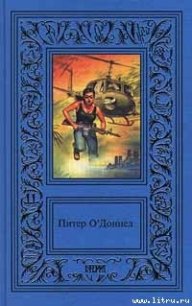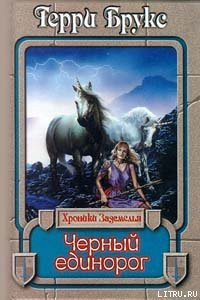Последний единорог (сборник) - Бигл Питер Сойер (электронная книга txt) 📗
Но вышло так, что ничего этого не было: как будто бы эти три женщины никогда не выезжали из-за поворота у ручейка, как будто мне приснились и дрожащие ямочки на плечах Лал, и то, как Ньятенери в одиночку убил двух убийц. Настоящим осталось лишь одиночество, которое я ни разу не называл его истинным именем, пока не появились они, — одиночество, да еще жара и страх.
Однажды я спросил у Маринеши, как там волшебник, потому что у Тиката мне спрашивать не хотелось. Она ответила не своим обычным скворчиным щебетом, а вполголоса, неуверенно:
— Да вроде ничего…
Когда я принялся ее расспрашивать, она поначалу крепилась, а потом вдруг разревелась — не расплакалась напоказ, молча, как знатная дама, как она всегда старалась плакать, а именно разревелась, всхлипывая, шмыгая носом, безжалостно теребя мой лучший носовой платок. Насколько я понял, старика она почти не видела с тех пор, как вернулись Лал с Ньятенери, «но я его слышу, Россет, каждую ночь, всю ночь напролет, он все ходит, ходит взад-вперед до рассвета, что-то бормочет, что-то распевает, разговаривает сам с собой. Он, наверно, вообще не спит…».
Я погладил ее по голове и утешил, как мог.
— Ну, значит, он спит днем, вот и все. А потом, Маринеша, он же волшебник, а волшебники не нуждаются ни в сне, ни в еде, ни во всем прочем — по крайней мере, не так, как мы.
Но она вырвалась и заглянула мне в глаза. И во взгляде ее была такая печаль — я и не подозревал, что глаза Маринеши способны вместить столько скорби.
— Там — другие, — прошептала она. — Иногда там появляются другие, и они ему отвечают. У них голоса маленьких детей…
И она убежала назад в трактир, не переставая плакать, и утащила мой носовой платок.
Тикат ничего не знал ни про какие голоса. Так он сказал, и я ему поверил. Сдается мне, что боги, духи, демоны, чудища и прочие им подобные в присутствии Тиката никогда не являются. Они просто терпеливо ждут, пока Тикат не уйдет, ждут, сколько придется. Вот Карш не такой. Можно было бы подумать, что и он из таких людей, если они вообще бывают, но нет. Что до Карша, то чудовища далеко не всегда давали себе труд дождаться, пока он уйдет.
Через пару дней после того разговора с Маринешей он разыскал меня на кухне. Тикат снова латал прогнившую колоду, из которой поят лошадей, а наш последний поваренок снова сбежал: Шадри их так лупит и гоняет, что за год у нас сменяется не меньше десятка поварят. Единственная польза с этого — что они временами сбегают, даже не потрудившись забрать плату. Карш минут пять ругал Шадри, ни разу не повторившись, а потом вдруг взглянул на меня, словно только что заметил — как всегда, — и проворчал:
— Подожди меня снаружи.
Я стоял на улице и ждал еще минут пять. Наконец он вышел, весь багровый, вытирая губы — можно было подумать, что он только что слопал Шадри с гарниром. Постоял немного, не глядя на меня и бормоча себе под нос:
— Проклятый недоумок, косорукий, недоделанный остолоп, и какой только урод внушил этому козлодою, что он умеет готовить?
Потом, когда счел нужным, сказал:
— Россет!
Я часто думаю об этом — как произносила мое имя Лал и как произносил его он. Ничего не могу с собой поделать — до сих пор вспоминается.
— Вы сказали, чтобы я подождал.
Карш кивнул. И сказал:
— Спасибо тебе.
Нет, положа руку на сердце не могу утверждать, что это был первый раз, когда Карш сказал мне «спасибо». Может, и не первый. Я даже не уверен, что я его как следует расслышал: он произнес это каким-то сдавленным голосом. Но я так удивился, как будто Карш вдруг принялся приплясывать и кружиться волчком, приставив палец к макушке. Я уставился на него. Карш разозлился и заорал:
— Ну, чего ты пялишься? Что случилось? Пялится, пялится — никогда еще не видел, чтобы человек так пялился, с первого же дня, с первого раза, как я тебя увидел!
Тут он остановился, откашливаясь и отплевываясь, но глаз с меня не спускал. Я ждал, размышляя, чего он хочет: то ли снова отругать за канавы, то ли приказать не расстраивать Маринешу. Но он яростно потряс головой, утер губы, перевел дух и спросил:
— Россет, ты как вообще?
Тут уже я немного побулькал, пытаясь выдавить нужные слова.
— Как я? Да нормально…
Карш покивал, так торжественно, словно я только что дал ответ на загадку, терзавшую его всю жизнь.
— Хорошо, это хорошо… — пробормотал он, а потом, глядя куда-то мимо меня, добавил: — Россет, я тут все хотел тебе сказать одну вещь. Давно уже хотел.
Я ждал. Карш продолжал:
— Ты… ты был неплохим мальчиком. Почти не плакал, под ногами не путался. Ты был очень славным малышом!
Последние слова стоили ему таких усилий, что он почти выкрикнул их, как бы говоря: «Попробуй только возразить!» Он стоял, глядя на меня исподлобья, пыхтя, и глаза у него сделались иссиня-черные, как всегда, когда он по-настоящему зол. Всего мгновение — а потом он развернулся и затопал в дом и, еще до того как отворил дверь, принялся снова громко ругать Шадри. А я остался стоять, где стоял, под выскобленным добела небом, дрожа от удивления, усталости и страха и жалея, что не знаю своего истинного имени.
Жарко. Слишком жарко. Бедный маленький лис скользит и бултыхается в своей противной липкой шкуре. У человечьего облика шкуры нет, но Ньятенери грозится десять раз убить, если увидит. Так что не будет человечьего облика, не будет славного красного эля в зале кабака, не будет ничего, кроме жаркого ветра в жарком бурьяне под деревом, на котором спят куры. Все равно, что есть старые метелки. Бедненький лис!
День, ночь, все тянется и тянется. Делать нечего — только спать. Я могу проспать хоть сто лет, если захочу — ничего не есть, ничего не пить, и проснуться, стоит вам обо мне подумать. Но однажды я поднимаю голову — и вот она, смотрит на меня сверху вниз. Лукасса. Глаза старые-престарые — почти такие же старые, как я.
— Лисичка, лисичка… — говорит она тихо-тихо. Наклоняется, берет меня на руки, как тогда, в первый вечер, прижимает к плечу, к шее. Я лижу вкусную соль — совсем немножко. — Лисичка моя, — говорит она. — Помоги ему.
Ему?! Лукасса чувствует, как я рычу, прижимает плотнее.
— Ах, лисичка, он такой добрый, он так добр к людям! Но не к лисам. — И ему угрожает такая опасность!
Вот и хорошо. Пусть теперь тот, другой потрясет его за шкирку и за хвост. Посмотрим, как ему это понравится. Принять человечий облик? Но она сжимает меня так, что я взвизгиваю, и говорит:
— Ты ведь знаешь их, тех, кто приходит ночью. Ты можешь заставить их уйти.
Лучше заставить уйти мага.
Лукасса:
— Ему надо умереть. Пришло его время, ему необходимо умереть.
Я сворачиваюсь у нее на руках, закрываю глаза. Лукасса говорит:
— Но если он умрет сейчас — больной, бессонный, разъяренный, — тогда он станет как они, только хуже, много хуже. Это как-то называется, только я слово забыла.
Ну да, грига-ат, очень страшно, ну и что? Лукасса поднимает мою голову, терпеливо ждет, пока я посмотрю ей в глаза.
— Лисичка, лисичка, я знаю, что ты мне ничем помочь не можешь, но, пожалуйста, ради него. Я прошу тебя, потому что мы друзья.
Целует в нос, сажает на землю.
— Иди к нему!
И стоит, вся такая доверчивая, ждет, что я прямо так и брошусь, побегу спасать злого волшебника от ночных посетителей. А я ложусь, где сидел, и свешиваю язык. Глаза у Лукассы блестят от печали.
— Лисичка…
Ждет. Отворачивается. Я зеваю в пыли: может, курам приснился дурнойсон, и они попадали с веток? Нет. Это моя печаль. Одним глазом смотрю,нет ли Ньятенери, одним ухом слушаю, нет ли толстого трактирщика, потом снова засыпаю — лисам дурацкие грига-аты не страшны. Страшны волшебники.
Но… но… Не успеваю я устроиться поудобнее в сухом бурьяне, как тут снова появляется старое ничто. «Узнай, узнай. Слишком беспокойно, что-то шевелится?» Я-то знаю, что шевелится: глупые волшебники ловят друг друга, тянутся через небо. Всего лишь глупые волшебники, не более и не менее — но старое ничто велит: «Узнай!», и вот бедному лису больше не спится. И вот я все же бегу, бегу прямо к Лукассиному волшебнику. Привет, дружище! Что, голоса нехорошие спать не дают? Вот и славно. Есть все-таки на свете справедливость. Быть может, лис тоже добавит пару слов.