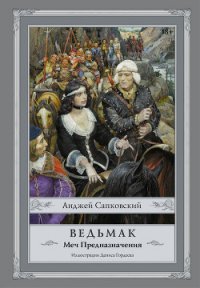Башня шутов - Сапковский Анджей (полные книги .TXT) 📗
В тот день селедка была еще противнее, чем обычно, кроме того, в тот вечер в Башне шутов не беседовали. Стояла тишина.
Весь следующий день – а он пришелся как раз на воскресенье, последнюю неделю перед адвентом, – атмосфера в Башне шутов была очень напряженной. В нервирующей и одновременно гнетущей тишине постояльцы ловили каждый долетающий сверху, от двери, стук или скрип; наконец каждый подобный звук начал вызывать у них панику и нервные расстройства. Миколай Коппирниг забился в угол, Инститор начал рыдать, скрючившись на подстилке в позе плода. Бонавентура сидел неподвижно, тупо глядя вперед, Фома Альфа дрожал, закопавшись в солому, Камедула тихо молился, обратившись лицом к стене.
– Видите, – не выдержал наконец Урбан Горн. – Видите, как это действует? Что с нами делают? Вы только взгляните!
– Удивляешься? – прищурился Шарлей. – Положи руку на сердце, Горн, и скажи, что они тебя удивляют.
– Я вижу бессмысленность этого. То, что здесь происходит, результат запланированной, тщательно подготовленной акции. Следствий еще не начали, еще ничего не делается, а Инквизиция уже сломала мораль этих людей, привела их к краю психического падения, превратила в животных, поджимающих хвост при щелчке бича.
– Повторяю: ты удивляешься?
– Удивляюсь. Потому что надо бороться. Не поддаваться. И не надламываться.
Шарлей осклабился по-волчьи.
– Ты, надеюсь, покажешь нам, как это делать. Когда придет время. Подашь пример.
Урбан Горн молчал. Потом сказал:
– Я не герой. Не знаю, что будет, когда меня подвесят, когда начнут подкручивать винты и вбивать клинья. Когда вынут из огня железо. Этого я не знаю и предвидеть не могу. Но одно знаю: мне нисколько не поможет, если я обмякну, превращусь в тряпку, примусь рыдать. Не помогут спазмы и мольбы о милости. С братьями-инквизиторами надо держать себя твердо.
– Ого!
– Именно! Они слишком привыкли к тому, что люди начинают трястись от ужаса и обделываются при одном только их появлении. Всесильные владыки жизни и смерти, они обожают власть, упиваются террором и страхом, который сеют вокруг себя. А кто они такие в действительности? Нули, псы с доминиканской псарни, полуграмотные, суеверные неучи, извращенцы и трусы. Да, да, не крути головой, Шарлей, это естественное явление у сатрапов, тиранов и палачей, это трусы, именно их трусость вкупе со всевластием делает их хищниками, а подчиненность и беззащитность жертв еще больше это усиливают. То же самое происходит и с инквизиторами. Под их вызывающими ужас капюшонами скрываются обыкновенные трусы. И нельзя распластываться перед ними и взывать к их милосердию, ибо это порождает в них еще большую чудовищность и жестокость. Им надо твердо глядеть в глаза! Хотя, повторяю, спасения это не принесет, но по крайней мере можно их попугать, порушить их хлипкую самоуверенность. Можно им напомнить Конрада из Марбурга.
– Кого?
– Конрад из Марбурга, – пояснил Шарлей. – Инквизитор Надрейнской земли, Тюрингии и Гессена. Когда своим двуличием, провокациями и жестокостью он вконец довел гессенских дворян до предела, те устроили на него засаду и изрубили. Со всей его свитой. Ни одна живая душа не уцелела.
– И ручаюсь вам, – добавил Горн, поднимаясь и отходя к параше, – что у каждого инквизитора навсегда врезалось в память это имя и событие. Так что запомните мой совет!
– Что ты думаешь о его совете? – буркнул Рейневан.
– У меня другой, – ответил угрюмо Шарлей. – Когда за тебя примутся всерьез, говори. Признавайся. Заваливай других. Выдавай. Сотрудничай. А героя сделаешь из себя потом. Когда будешь писать мемуары.
Первым на следствие взяли Миколая Коппирнига. Астроном, который до той поры старался не показывать страха, увидев направляющихся к нему рослых инквизиторских пособников, совершенно потерял голову. Сначала кинулся в бессмысленное бегство – ведь бежать-то было некуда. Когда его поймали, бедняга принялся верещать, рыдать, вырываться, извиваться угрем в ручищах схвативших его дылд. Разумеется, впустую, единственное, чего он добился, это ударов. Ему расквасили нос, через который, когда его выводили, он очень смешно мычал.
Но никто не смеялся.
Коппирниг уже не вернулся. Когда наутро пришли за Инститором, тот бурных сцен не закатывал, был спокоен, только плакал и в полном отчаянии всхлипывал. Однако, когда его хотели поднять, наделал в штаны. Сочтя это актом сопротивления, дылды, перед тем как его вытащить, крепко избили.
Инститор тоже не вернулся.
Следующий – в тот же день – был Бонавентура. Совершенно подуревший от страха городской писарь принялся ругать инквизиторских пособников. Кричать и пугать их своими связями и знакомствами. Мужики, естественно, не испугались знакомств, им было начхать на то, что писарь играл в пикет с бургомистром, плебаном, менялой и старшиной цеха пивоваров. Бонавентуру выволокли, предварительно как следует отлупцевав.
Он не вернулся.
Четвертым в инквизиторском списке был, вопреки черной ворожбе, не Фома Альфа, который, ожидая этого, всю ночь плакал и молился попеременно, но Камедула. Камедула совершенно не сопротивлялся, прислужникам не пришлось его даже трогать. Бросив собратьям по несчастью тихое «прощайте», немодлинский дьякон перекрестился и пошел на лестницу, покорно опустив голову, но шагом спокойным и твердым, которого не устыдились бы первые мученики, идущие на арены Нерона или Диоклетиана.
Камедула не вернулся.
– Следующим, – сказал с угрюмой уверенностью Урбан Горн, – буду я.
Он ошибся.
Убежденность в своей судьбе настигла Рейневана уже в тот момент, когда наверху хлопнула дверь, а залитые косыми лучами солнца ступени загудели и заскрипели под ногами прислужников, которых на этот раз сопровождал брат Транквилий.
Рейневан поднялся, пожал руку Шарлею. Демерит ответил крепким пожатием, в его лице Рейневан впервые увидел что-то вроде очень, даже очень серьезной заботы. Мина Урбана Горна говорила сама за себя.
– Держись, брат, – проговорил он, до боли стискивая Рейневану руку. – Помни о Конраде из Марбурга.
– Не забывай, – добавил Шарлей, – о моем совете.
Рейневан помнил и о том, и о другом, от этого ему вовсе не было легче.
Возможно, его мина, а может быть, какое-то незаметное движение заставили громил подскочить к нему. Один схватил его за ворот и очень быстро отпустил, сгорбившись, ругаясь и стискивая локоть.
– Без насилия, – напомнил с явным нажимом брат Транквилий, опуская палку. – Без принуждения. Это, как бы там ни было и вопреки видимости, госпиталь. Понятно?
Громилы заворчали, кивая головами. Божегробовец указал Рейневану на лестницу.
Холодный бодрящий воздух чуть не свалил его с ног, а когда он вдохнул полными легкими, то покачнулся, закружилась голова, словно после глотка самогона на пустой желудок. Он наверное бы упал, но умудренные опытом громилы подхватили его под локти. Таким образом с ходу провалился его сумасшедший план бегства. Либо смерти в борьбе. Теперь, когда его тащили, он мог только переставлять ноги.
Госпициум он видел впервые. Башня, из которой его вывели, замыкала cul-de-sac [458] сходящихся стен. По противоположной стороне, у ворот, притулился к стене домик, вероятно, там находились госпиталь и medicinarium. [459] А также, судя по запаху, кухня. Навес у стены был забит лошадьми, притопывающими среди луж мочи. Всюду крутились вооруженные люди. «Инквизитор, – догадался Рейневан, – прибыл с многочисленным эскортом».
Из medicinarium' а, к которому они направлялись, доносились высокие отчаянные крики. Рейневану показалось, что он различает голос Бонавентуры. Транквилий поймал его взгляд и, приложив палец к губам, приказал молчать.
Внутри здания, в светлой комнате, он оказался как во сне. Сон был прерван ударом, болью в коленях. Его кинули перед столом, за которым сидели трое монахов в рясах – божегробовец и два доминиканца. Он заморгал, тряхнул головой. Сидящий в центре доминиканец, тощага с испещренной коричневыми пятнами лысиной над узким веночком тонзуры, заговорил. Голос у него был неприятный. Скользкий.
458
тупик (фр.).
459
врачебное помещение (лат.).