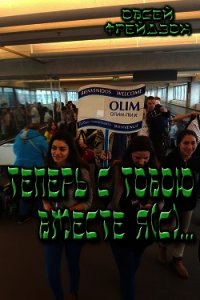Аид, любимец Судьбы. Книга 2: Судьба на плечах (СИ) - Кисель Елена (книги бесплатно TXT) 📗
Впрочем, беситься на моих глазах жеребцы не стали. Я бросил вслед Гермесу: «Не вздумай стать на колесницу» – хотя и был уверен, что племянник до такой глупости не додумается. Пересек благоуханный, пестрящий украшениями двор конюшни. Вернулся в душный, темный, пропахший лошадьми дворец, прошел по коридорам, чтобы явиться на всеобщее обозрение через парадную главные двери, те самые, к которым были приколочены головы предыдущих женихов.
Порог перед дверями выщербленный, будто от удара копытом. Два конюха, распахнувшие двери, пожирают господина слепо обожающими взглядами (конюхам тут точно живется неплохо). Господин протаскивает в проем тельце, обернутое в легкий хитон под хламисом, а потому еще более тщедушное.
Господин изо всех сил старается не горбиться, потому что у сыновей Ареса нет Тартаров на плечах. Красноватые веки смертного щурятся, когда в лицо бьет поток солнечных гелиосовых стрел – так проще скрыть черноту и остроту взгляда, который так и не хочет голубеть и тупиться.
Головы на дверях мерно качаются – пять на одной тяжелой деревянной створке, пять на другой. Ветер развевает отставшие пряди. Перед тем, как прибить к дверям, головы женихов умастили благовонным маслом, чтобы получше сохранились, и тление коснулось не всех.
Тот, который страдальчески скалится – рыжий, с хищным носом – наверняка слыл красавцем.
Ступени тоже щербатые – двенадцать штук! Будто на этих самых ступенях гонки и проводились. Перед крыльцом – славные жители города Писы: старейшины, знатные воины, жены, девушки, даже подростки какие-то.
В руках у жителей – цветы и немудреные дары, в одеждах – умеренный траур по еще одной загубленной жизни, в глазах – сочувствие. Мальчишки из задних рядов бесстрашно тычут пальцами в качающиеся за моей спиной головы. Девушки через одну зареваны, и даже появление басилевса не спугивает муху шепота, летающую над головами толпы: ах, какой красивый, какой сильный, какой смелый, на смерть…
– Хайре, уважаемый!
Колесница стоит чуть поодаль, в ней танцуют двое гнедых с пенно-белыми гривами, рядом с жеребцами увивается, пугливо поглядывая на отсеченные головы на дверях, кто-то неуловимый, как пугливая дичь, только гиматий спорит синевой с небом, да едва заметно взблескивают под солнцем черные кудри.
Пелопс, наверное. Сын Тантала, внук Зевса, любовник брата, который стоит передо мной в чужом обличии.
Приземистый, крепкий, румяный. Про такие плечи говорят «во!» – и разводят руками. Лицо дышит необузданностью страстей, глаза вот только зеленые, а не карие. На шее ожерелье из жемчуга, обруч, сдерживающий волосы, вот-вот треснет, не выдержав сине-черного шквала…
Да уж, в чужом обличии. Тут только слепой не догадался бы.
– Не передумал ли ты состязаться со мной, богоравный Гиппофой? Отступи с честью. Пируй в моем дворце, – Посейдон слушает с веселым презрением, вся поза его так и кричит: «Ты этот сарай у себя за спиной дворцом называешь?!» – Вернись домой и найди себе хорошую невесту. Неужто ты так не ценишь свою голову?
Ветер сухой, холодный, колет смертные щеки. День не для лета – для начала зимы, когда Деметра вовсю предается скорби в темных одеждах. Посейдон снисходительно поясняет смертному царьку, что он голову свою очень даже ценит, а потому расставаться с ней не намерен. И искать себе другую невесту не намерен, потому что прекрасная Гипподамия…
Прекрасная Гипподамия уже давно расположилась в кресле на крыльце, и две служанки прикрывают ее от холодного солнца. Милое девичье личико и полная развязности поза дешевой шлюхи: бедро проглядывает из выреза нарядного шафранного пеплоса. Жених Гипподамии нравится, она строит ему глазки (не замечая, как пытается перехватить каждый ее взгляд несчастный юноша у колесницы). Только что толку смотреть, что толку представлять, если есть такой вот папочка, папочка, конечно, обгонит жениха, потому что он ревнивый и еще там какое-то пророчество было. А жалко. Этот – как его, Гиппофой, он даже красивее того, второго, и мускулистее, он ей больше нравится, а второй уже долго болтается на двери, у него уже и нос сгнил…
– Будь по-твоему, Гиппофой с Лемноса. Путь наш начнется здесь и закончится около жертвенника Посейдона, что недалеко от Коринфа. Из жалости к твоей юности и смелости и на правах хозяина я, пожалуй, дам тебе фору…
Гул в толпе – старейшины с вдумчивым видом чешут бороды, кто не услышал – тянут шеи, толкают соседа в бок: эй! что это наш басилевс чудит!
Посейдон – часть моря в бирюзовом хитоне и расшитом волнами плаще – царственно склоняет голову в ответ на шутку кривоногого басилевсика. Фору? Ну, ладно. Только постарайся потом рассмотреть вдалеке мою колесницу.
Ветер – почему-то кажется, что с моря дует – игриво покусывает за скулы.
Наверное я все же ввязался в это не в последнюю очередь чтобы повидать тебя, брат. В глаза тебе посмотреть – издалека, мельком, оставаясь неузнанным. Увидеть то, что и без того знаю.
Мне хочется верить, что это Гера предложила: чтобы и меня после Зевса. Что она вложила тебе это в голову: «Ты же знаешь, он не остановится! Кто может судить, какие козни он плетет в своем мраке?!» Что ты сопротивлялся – по-старому: «Да ты… это… совсем, сестра?! Чтобы Аид – против меня…» – прежде чем поверил и согласился.
Но у Владык не бывает семьи, а ты стал Владыкой раньше меня (когда успел? пока за Зевсом гонялся?!). То, с чем я так отчаянно и бездарно дерусь, ты принял как подарок.
Правда бывает неожиданной. Она в том, что я плохой Владыка. И брат не очень хороший.
Правда в том, что ты хороший Владыка, Посейдон.
Только у тебя больше нет братьев.
– Кому ты будешь приносить свои жертвы, о Гиппофой?
– Черногривому Посейдону – покровителю лошадей и колесничих! Я верю, что он поможет мне одержать победу!
Не считай свою широкую усмешку многозначительной брат. Посмотри на мою – чуть тронувшую уголок губ.
Учись.
– Прими мой совет – и не забудь в своем воззвании подземных богов. Может, Щедрый Дарами и облегчит твою участь…
Взгляд мог бы выдать меня, но Посейдон не заметил – пытался скрыть усмешку при упоминании подземного братца. Участь его… он… со своими мертвяками… а как же!
Посейдон не заметил – а статная дева в пеплосе, спорившая с крепким воякой, вздрогнула. Подалась слегка назад, будто в руке у нее было копье, но метнула не копье – взгляд.
Серый, знакомый, от которого не спасешься щитом, а не то что жалкой шкуркой смертного…
Настырно блеял барашек, которого я должен был зарезать над алтарем. Воззвав при этом к своему божественному отцу – чтобы помог в гонке.
Посейдон перед своим алтарем вовсю приносил жертву самому себе, и баран верещал не бараньим голосом, видя хищное лезвие над своим горлом.
Афина внизу, в толпе, негромко рассмеялась. Бросила стоящему рядом Аресу: «Да, я могу утроить ставки. И да, поставлю на дядюшку. Только… только не на того дядюшку…»
Арес засопел и надулся. Утешься, племянник, я тебе тут сейчас жертву принесу – примешь, а?
Барашек на алтаре Посейдона захлебнулся, кровь свилась в сладковатый дымок и унеслась в сторону моря – скучная, пустая…
Сотрясается земля – и мужи в богатых одеждах в один голос охают: «Знамение! Колебатель Земли отозвался!»
Приносить жертвы самому себе – глупое тщеславие. Ата бы сказала, что в этом нет изящества настоящей игры. Я слышу ее прямо сейчас, Посейдон, – перед тем, как мы поиграем с тобой по-крупному: она стоит где-то в толпе и морщит нос, глядя на твой алтарь.
Потом выразительно ухмыляется в сторону крыльца, где я вовсю призываю снизойти ко мне моего великого, грозного, неповторимого отца. Где я ступаю по тонкой нити, потому что из Тартара хищно следят за каждым словом, за движением руки, посыпающей ячменной мукой голову жертвы, за поднявшимся ножом…
«Мне, сынок?!»
«Обойдешься, скотина старая», – честно откликается басилевс Эномай, сжимая нож в обугленной ладони и напоследок разражаясь призывом к «Шлемоблещущему Эниалию».