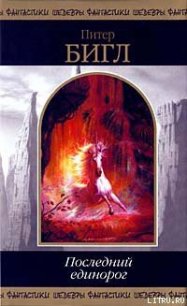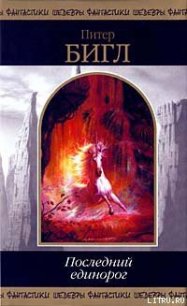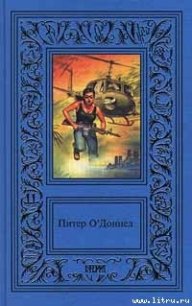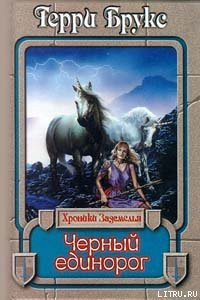Последний единорог (сборник) - Бигл Питер Сойер (электронная книга txt) 📗
Ближе к вечеру мы принялись медленно и угрюмо сближаться. Мы больше не кричали друг на друга, но разговаривали ворчливо — а на дирвике это звучит угрожающе, что было нам очень кстати. Почти одновременно, почти одними и теми же словами мы сказали:
— Прежде всего надо сделать вид, что мы расстались.
Тут мы не удержались от смеха, но это ничему не повредило: на дирвике смех звучит отвратительно. Ньятенери сказал:
— Весь вопрос в том, что нам сделать: подраться или просто разойтись. Неплохо было бы устроить драку.
— Если мы с тобой устроим драку, кто-то из нас умрет. А может, и оба. Вполне вероятно, что он это знает.
— Да нет, не настоящую, а что-то вроде потасовки. Крик, оплеухи, тычки — любовники, поссорившиеся насмерть. Он ведь и так наверняка считает нас любовниками.
Теперь он точно смеялся надо мной — это чувствовалось даже сквозь безличную злобность самого языка. Вместо ответа я смерила его взглядом, давая ему понять, что я тоже помню вкус его кожи, и то, как его ногти вонзались мне в бока, и блаженное слияние плоти. Помню все, но ни о чем не жалею и не тоскую. Я сказала:
— Я пойду вверх по течению и оставлю тебя здесь. А тебе придется сделать вид, что ты строишь плот в одиночку.
— Плот придется строить из всякого мусора — плавника, сухих сучьев, что под руку попадется. На самом деле это для меня самое сложное: соорудить плот, который будет выглядеть достаточно прочно, чтобы такой хитроумный беглец, как Соукьян, мог пуститься на нем вниз по реке — я уж не говорю, через пороги. Мы с ним старые приятели, понимаешь ли, — повторил он.
То, что он нарочно употребил свое истинное имя, неприятно задело меня и ненадолго заставило замолчать. С тех пор, как я его узнала, я произнесла его лишь однажды и всегда старалась думать о своем спутнике только как о Ньятенери.
— Подожди до сумерек и старайся держаться подальше от деревьев. Насколько близко он сможет подойти, прежде чем ты его заметишь?
Ньятенери бросил на меня такой снисходительный взгляд, что он привел бы в ярость даже королеву Вакалшакву Несказанно Добрую, которая — так говорится в преданиях, — была настолько кротка нравом, что дикие горные тарги и нишори оставляли свои логовища и отправлялись в паломничество к ее двору, чтобы пасть к ногам королевы и испросить благословения. Они портили ковры и жрали слуг — которые были не такие святые, как их королева, но зато вкусные. Но Вакалшаква терпеливо заменяла ковры и слуг и ни разу не попрекнула зверей. Я знаю восемь песен про эту королеву, но среди них нет ни единой, сложенной таргом или слугой.
Я чуть заметно кивнула в сторону светло-коричневых водорослей, медленно вращающихся в водоворотике у берега.
— Постарайся набрать как можно больше этих «мертвецких кудрей». На конце стеблей — гроздья воздушных пузырей. Можешь натолкать их под плот для плавучести. Возможно, это даже действительно поможет.
— Возможно, — ответил Ньятенери, растянув губы в зловещей ухмылке дирвика, не глядя в сторону берега. — Спасибо, мысль неплохая.
Эти слова прозвучали как смертельное оскорбление, и Ньятенери резко толкнул меня в плечо, так что я упала в чащу кустарника. Увидев, как я с трудом поднимаюсь на ноги, он оглушительно расхохотался. Я сказала:
— Я оставлю твой мешок, в нем все наши веревки, — и дала ему в зубы.
— И пустые бутылки из-под воды тоже оставь, — напомнил он, встряхнув меня так, что я едва не прикусила себе язык. — И вообще все, что плавает. Когда стемнеет, возвращайся обратно без лошадей.
Так мы обсудили все подробности, непрерывно угощая друг друга затрещинами и пинками. Лошади наблюдали за нами, равнодушно пофыркивая. Из реки выпрыгивала рыба, охотясь за мошками. А где-то рядом, прячась среди деревьев-обманок, ждал темноты неутомимый враг Ньятенери. Когда мы все уладили, насколько можно было уладить, я плюнула Ньятенери в глаза и умчалась прочь, остановившись лишь затем, чтобы крикнуть:
— Извини, что не рассказала тебе свой план насчет плота! Я по-прежнему Лал-Одиночка, и мне трудно довериться даже товарищу. Извини.
Ньятенери оскалился и угрожающе взмахнул рукой:
— Да, я понимаю! Кстати, мне бы следовало тебя предупредить, что плавать я не умею…
Тут я чуть было не испортила весь спектакль, в тревоге уставившись на него, но он рявкнул:
— Признание за признание! Иди и помни, что наш маленький приятель опаснее любых врагов, с какими тебе случалось встречаться. Ступай, ступай!
Я подбежала к лошадям и яростно принялась их навьючивать. Мешок Ньятенери я швырнула на землю, а его лошадь привязала к вороному милдаси. Потом села в седло и погнала лошадей прочь, вверх по течению, прямиком на запад, ни разу не оглянувшись до тех пор, пока мы не доехали до верхнего рога полумесяца. Отсюда Ньятенери уже казался крохотным и далеким. Он стоял на берегу, собирая в охапку толстые, гибкие «мертвецкие кудри». Я крикнула:
— Будь осторожен! — рассчитывая, что этот дурной язык превратит предостережение в прощальное ругательство. Ньятенери даже головы не поднял. Я снова сплюнула — на этот раз затем, чтобы очистить рот от мерзости дирвика, — и поехала вдоль реки.
«Человек, который умеет оборачиваться лисом. Лис, который умеет оборачиваться человеком. Кто ты?» — спрашивает меня мальчишка Тикат, когда мы встречаемся. Только я затыкаю его глупый рот едой. Тогда — лучший способ. Но на самом деле — на самом деле не один снаружи, а другой под ним. Лис и человечий облик — бок о бок, и им вечно мало места, а внизу — о, внизу! Внизу — ничто, такое старое-старое ничто, что оно давным-давно превратилось в нечто. Правда. Даже ничто чего-то хочет, даже ничто временами жаждет слышать голоса, песни, вдыхать запах земли на рассвете, попить водички, скушать голубка… А я? Я — палец этого ничто, крошечный мизинчик, но и то я — это я, и делаю, что хочу. Ньятенери хочет того, человечий облик — этого, а я делаю, что хочу. Но когда старое ничто зовет, я прихожу.
А старое ничто шевелится — холодное, грузное, сонное ничто чует его, хитроумного мага в трактире, одного в своей норе, загнанного под землю, точно лис, — да-да, и тот другой, оно и его тоже чует, тянется, ищет, почти знает, почти уверено. Над трактиром, вокруг трактира — всюду сила тянется к силе, собаки это знают, куры знают, даже погода, и та знает. Яркое, горячее солнце, ни облачка, день за днем, и все время пахнет дождем, но дождя все нет. Старое ничто говорит во мне: «Узнай. Узнай».
Вот так. Ньятенери далеко, и человечий облик снова сидит в зале, весь такой розовый, рассказывает длинные дурацкие истории, расспрашивает, выслушивает, следит. Трактир кишит народом, как гнилое бревно — червяками: паломники, бродячие торговцы, бурлаки, солдаты в отпуску, пару раз появляются охотники на шекната со своими тонкими, режущими шелковыми сетями и парными пиками. Россет слишком печален, чтобы болтать, Маринеша слишком занята, да к тому же человечий облик ей никогда не нравился. Гатти-Джинни готов болтать весь день напролет, наливать красный эль, но что может знать этот маленький и сердитый? То же самое — Шадри, повар, глупый, как поварята, которых он лупит. Мальчишка Тикат старается держаться подальше от человечьего облика, даже не взглянет через зал. Толстый трактирщик бегает туда-сюда, обслуживает, прислуживает, орет на солдат, когда те щиплют Маринешу. Он каждый раз пристально смотрит на человечий облик. Каждый раз в ответ — приятная улыбка. Почему бы и нет? На этих зубах голубиных перьев не видно…
«Девушка, — говорит старое ничто. — Девушка». Но она большую часть времени проводит с этим вредным магом и к себе в комнату возвращается только по ночам. Если лис тихо, тихо-тихо проскальзывает к ней под руку, тычется носом, она шепчет:
— Ах вот ты где!
Наклоняется ко мне:
— Где же наша Лал, маленькая? Где же наша Ньятенери? Ты не знаешь? Тафья, — это она так его называет, — тафья говорит, что они оба дураки, что их съедят горные тарги, что они упадут в реку и утонут, и чтобы я о них не тревожилась. Но я тревожусь. Маленькая, скажи мне, где мои друзья!