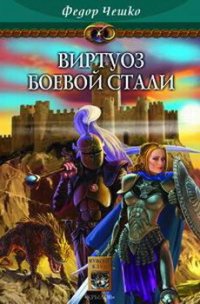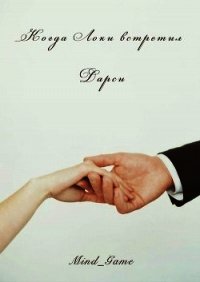В канун Рагнарди - Чешко Федор Федорович (книги онлайн полные версии бесплатно TXT) 📗
— Так что, может быть... — Наташа все смотрела в окно, постукивала по стеклу до белизны сжатыми кулачками. — Быть может, что так... Это хорошо. Это очень хорошо, Вить, что ты совершенно не умеешь врать. Ты это учти на будущее, ладно? Ты много-много чего умеешь, а вот врать — ну ни капельки. По крайней мере, мне. Ну, ладно, — она наконец оторвалась от изучения улицы, подошла к Виктору, пихнула его в кресло. — Сиди тут и не рыпайся. Считай, что успокоил меня и гордись собой. А я сейчас тебя чаем поить буду.
Виктор и не думал рыпаться. Гордиться собой, впрочем, тоже. Он просто сидел и слушал, как Наташа гремит на кухне посудой, ругается с заартачившейся конфоркой, отчитывает протекающий кран... Правда, услышав тяжелый удар, рассыпавшийся звоном осколков, и последовавший за ним яростный рык озверевшей тигрицы, он было вскочил, но из кухни сообщили:
— Это был чайник. Заварной. Фарфоровый. Все в порядке.
А потом в кухне долго-долго лилась вода — из обоих кранов на полную мощность. Чтобы Виктор не услышал, как Наташа плачет. И он горбился в своем кресле, кусал губы, но понимал, что туда, к ней, нельзя и не двигался. А потом вода перестала шуметь, и чуть-чуть охрипший голос Наташи объявил:
— Во изменение предыдущего распоряжения можешь прийти и забрать чайник. Только учти: он тяжелый и кусается.
Никакого чая они, конечно, не пили: сначала он был слишком горячий и пить было невозможно, а потом слишком остыл и пить стало неинтересно. Наташа уволокла чайник на кухню — подогревать — и они совсем забыли про него, и просто сидели, сидели вдвоем в одном кресле, как всегда, как раньше, когда из другого кресла насмешливо и близоруко щурился на них Глеб, а они показывали ему нос в четыре руки.
Они просто сидели, прижавшись друг к другу, и Наташа рассказывала, что в лаборатории завелась мышь и ее кормят кефиром и пряниками; что вчера в трамвае везли щенка овчарки, который хватал и лизал все подряд, тыкался носом в окно, а то вдруг начинал хныкать — совсем как ребенок; и Виктор переживал за мышь, сочувствовал щенку, переспрашивал, уточнял... Они очень старались не говорить о Глебе, только ничего из этой затеи у них не вышло.
И Наташа сказала:
— Знаешь, а ведь он уже давно был как-то не похож на себя. Будто боялся чего-то... Или это мне теперь так кажется?
— Может быть и кажется, — Виктор хмурился, теребил усы. — Только мне тоже казалось. То-есть я не думаю, чтобы он чего-то боялся — страха ему ваши родители в свое время недопоставили. Но что-то с ним происходило, это точно. Мы недавно (недавно — это месяц назад) спор затеяли. Идиотский такой, о конструктивных особенностях дубин каменного века. Конкретнее: были у первобытных людей на дубинах темлячки — ну, петельки такие, чтоб на руке носить — или нет. Я говорил, что нет, а Глеб доказывал... То-есть не доказывал даже, он как-то горячился очень, а когда я что-то уж совсем безапелляционное выдал, он аж затрясся и крикнул: «Ты можешь только гадать да предполагать, а я — знаю! Понимаешь, ты? Знаю!» За точность не поручусь, но смысл был такой... И выскочил он из комнаты, как ошпаренный, и дверью так хлопнул, что стекла, наверное, до сих пор дребезжат... А через десять минут пришел извиняться. И знаешь...
— Знаю, — Наташа сосредоточенно водила пальцем по подлокотнику. — И еще я вот что знаю. Нам с Глебом иногда сны снились. И не беда, если бы просто снились, а то ведь одинаковые. Мне и ему. Первобытные люди, например. И не просто люди, а одни и те же. События одни и те же, подробности. Темлячки эти на дубинках, например... Так вот, Вить, Глеб считал, что это — пробои генетической памяти. Он последние полгода только об этом и говорил. Что если научиться этим управлять, то человек будет не человек, а сам себе машина времени. И не только говорил — работал. Только как-то непонятно. Ветхий Завет читал-перечитывал, на йогу стал ходить, потом — на у-шу... Только бросил скоро, сказал, что это — не то. А что то — не сказал. И писал он много, очень-очень много писал, а читать не давал, говорил: «Закончу — прочту». Я и ныла, и канючила, а он — ни в какую. И знаешь, Вить, я ведь вчера всю-всю квартиру перерыла, эти его записки искала. И не нашла. И мама их в глаза не видела...
Наташа встала, прошлась по комнате, странно глянула на Виктора:
— Вот я и подумала... Думала, понимаешь, думала, и додумалась... Может, он что-то открыл? Такое, что за это его... И записки уничтожили. А?
Виктор не ответил, молча смотрел в сухую горячую темноту ее глаз. Что с ней? Господи, что с ней? Эти глаза — что-то нечеловеческое в них, древнее, нездешнее... Или безумное?! Или она — тоже?! Господи!
Он, наверное, плохо владел своим лицом в эти минуты, потому что Наташа сникла, рассмеялась — горько, бессильно:
— Ладно. Только не вздумай скорую вызвать. Будем считать, что я еще не спятила, просто дрянной фантастики начиталась.
Виктор хотел заговорить, как-нибудь подбодрить ее, или просто встать, подойти, погладить по голове, но не успел. Наташа отвернулась, заговорила быстро, торопливо:
— Знаешь, Вить... Ты посиди пока, а я пойду гляну, что там у нас с чайником...
И снова Виктор сидел один в полутемной комнате, не зная, как помочь, как утешить, а в кухне шумела льющаяся из открытых до отказа кранов вода.
А потом была бессонная тягучая ночь, растраченная на бесплодные попытки не думать о том, о чем не думать нельзя. Ночь страха перед притаившимся в углу телефоном, который в каждое из вереницы тянущихся без конца мгновений этой ночи мог ворваться трескучим звоном, принести оттуда, из черноты ночного города, от Наташи, весть о новой беде.
Ночь кончилась, и пришло утро. Мутное, какое-то не весеннее, скучное и ненужное, как работа, на которую приходилось идти.
Виктор шагал в суетливой нервной толпе, висел на поручне переполненного трамвая, стиснутый плечами таких же, как он — невыспавшихся, неулыбчивых, спешащих, и поражался, как чутко и услужливо все вокруг перестраивается в унисон с его мыслями и чувствами.
Кто-то сказал: человек — порождение окружающей среды. Если бы так! К сожалению, это человек творит окружающий мир, как бог, по образу и подобию своему. Истина не новая, но услышанные и прочитанные не раз слова вдруг поражают новизной своего смысла, когда хмурый неприкаянный взгляд, скользя по многоликой толпе, встречает только глаза, в которых, как в зеркале, отражается его неприкаянность. Не потому, что других не существует, а потому, что других не существует для него.
На работу Виктор опоздал. Ну и что? Что изменится в мире от того, что один младший научный сотрудник (хорош младший — под тридцать!) на две минуты позже сел на продавленный стул в своем НИИ? Да ничего не изменится. Особенно, если учесть, что вышеупомянутый сотрудник зачастую задерживается после работы и на час, и на три, а бывает, что и часов на десять.
Некоторое время он сидел, тупо глядя в стол. Работы было до черта, и нужно было бы встать, куда-то идти, что-то делать, но двигаться не хотелось настолько, что даже необходимость протянуть руку к пачке с сигаретами пугала и пересиливала желание закурить.
А в незанятую ничем голову лезли мысли — непрошенные, неприятные. И чтобы отогнать их, не пустить, Виктор стал припоминать подробности вчерашнего вечера, как он все-таки не выдержал, пошел на кухню утешать Наташу, как Наташа плакала у него на плече — вся польза от утешений. А потом вернулась Ксения Владиславовна, и женщины долго-долго шептались о чем-то. А потом Наташа вспомнила о Викторе и выставила его домой.
Зазвонил телефон — настырно, требовательно, неотвязно. Пришлось встать, снять трубку:
— Слушаю.
— Виктор? Здравствуй.
— Привет, — буркнул Виктор, и вдруг сообразил, что говорит с шефом.
На другом конце провода поперхнулись, потом сухо произнесли:
— Зайди ко мне.
Виктор вздохнул, повесил трубку и пошел заходить. Хорошо начался день. Обнадеживающе.
Шеф обернулся на звук открывшейся двери, кивнул на стул для посетителей: «Посиди...» Ему было не до Виктора — он с кем-то ругался по телефону. Виктор сел, и от нечего делать стал разглядывать шефа: его роскошную седую шевелюру, хищный хрящеватый нос, тонкие бледные губы... Конкистадор, да и только. Кондотьер. Берсеркер. Этим длинным узловатым пальцам не трубку бы телефонную сжимать, не ручку с иридиевым пером, а рукоять меча. Где-нибудь на темной грязной улочке средневекового города. Или кинжал. В подворотне... Разговор-то разговор! Интересно, кого это он так?