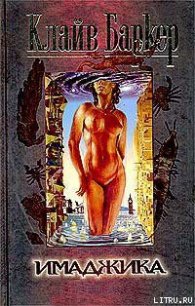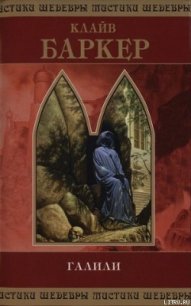Имаджика. Примирение - Баркер Клайв (читаем книги онлайн TXT) 📗
После этих слов Целестины раздался щелчок замка, и дверь Комнаты Медитации медленно распахнулась, но Юдит была еще слишком низко и увидела только стропила, освещенные то ли свечкой, то ли сотканной овиатами сияющей пеленой, которая окутывала Сартори на улице. Теперь, когда дверь открылась, голос его был слышен лучше.
— Ты войдешь? — спросил он у Целестины.
— А ты хочешь, чтобы я вошла?
— Да, мама. Прошу тебя. Я хочу, чтобы мы были вместе, когда наступит конец.
«Знакомая песня, — подумала Юдит. — Ему, похоже, абсолютно все равно, в чью грудь уткнуть свое заплаканное лицо, лишь бы его не оставили умирать в одиночку». Целестина шагнула внутрь, но дверь за ней не закрылась, а гек-а-геки не вернулись на свои посты. Юдит овладело жестокое искушение продолжить подъем и заглянуть в комнату, но страх перед овиатами пересилил, и она осторожно опустилась на ступеньку — на полпути между Маэстро наверху и бездыханным телом внизу. Там она стала ждать, прислушиваясь к тишине — в доме, на улице, во всем мире.
В голове ее сложилась молитва.
«Богини… — подумала она, — это Ваша сестра, Юдит. Надвигается огонь, Богиня. Он уже совсем близко, и мне очень страшно…»
Сверху донесся голос Сартори, но он говорил так тихо, что даже при открытой двери нельзя было разобрать ни единого слова. Однако слова перешли в рыдания, и это нарушило ее сосредоточенность. Нить молитвы была потеряна. Не имеет значения. Она сказала достаточно, чтобы выразить свои чувства: «Огонь уже совсем близко, Богини. Мне страшно».
Что еще она могла сказать?
Огромная скорость, с которой двигались Миляга и нуллианак, отнюдь не уменьшила впечатления от масштабов города, — скорее, наоборот. По мере того как проходили минуты, а улицы все продолжали мелькать мимо, тысяча за тысячей, ослепляя глаза все тем же насыщенным цветом домов, уходивших под небеса, величие этого труда переставало казаться эпическим и все более наводило на мысль о безумии. При всем очаровании красок, идеальности пропорций и совершенстве отделки город был бредом сумасшедшего, навязчивой галлюцинацией, которая отказывалась успокоиться до тех пор, пока не покрыла каждый квадратный дюйм этого Доминиона памятниками собственной неутомимости. На улицах по-прежнему не было видно ни одного обитателя, и в сердце Миляги закралось подозрение, которое он в конце концов выразил вслух — правда, не в форме утверждения, а в форме вопроса:
— Кто живет здесь?
— Хапексамендиос.
— А еще кто?
— Это Его город, — сказал нуллианак.
— А в нем есть горожане?
— Это Его город.
Ответ был достаточно ясен. В городе не было ни одной живой души, а колыхание виноградных лоз и штор, которое он замечал в начале пути, либо было вызвано его приближением, либо, что более вероятно, было игрой иллюзий, которой забавлялись пустые здания, чтобы скоротать столетия.
Но в конце концов, после того как они миновали бесчисленное множество неотличимых друг от друга улиц, стали появляться признаки едва ощутимых изменений. Буйные краски постепенно становились все более насыщенными, а бока камней казались такими лоснящимися, словно они вот-вот должны расплыться и потечь. Отделка фасадов стала еще более утонченной, а пропорции — совершенными, что навело Милягу на мысль о том, что они приближаются к первопричине этого города, а районы, над которыми они пролетали вначале, были лишь имитациями, выхолощенными от непрестанного повторения.
Подтверждая подозрение о том, что путешествие близится к концу, проводник Миляги заговорил.
— Он знал, что ты придешь, — сказал он. — Он послал часть моих братьев на границу, чтобы встретить тебя.
— А вас много?
— Много, — сказал нуллианак. — Минус два. — Он повернулся к Миляге. — Но ты-то, конечно, об этом знаешь. Ведь это ты их и убил.
— Если б я этого не сделал, они бы убили меня.
— А разве не было бы это предметом гордости для нашего племени? — сказал нуллианак. — Убить Сына Бога…
Его молнии засмеялись, но веселости в этих звуках было не больше, чем в хрипе умирающего.
— А ты не боишься? — спросил его Миляга.
— А чего я должен бояться?
— Говорить такие вещи, когда мой Отец может тебя услышать?
— Он нуждается во мне, — ответил нуллианак, — а я не нуждаюсь в том, чтобы жить. — Наступила пауза. — Хотя мне будет жаль, если я не приму участия в уничтожении Доминионов, — добавил он, поразмыслив.
— Почему?
— Потому что ради этого я был рожден. Слишком долго я жил, дожидаясь этого.
— Как долго?
— Много тысячелетий, Маэстро. Много-много тысячелетий.
Мысль о том, что он летит рядом с существом, прожившим гораздо более долгую жизнь, чем он сам, и рассматривает грядущее уничтожение как главную ее цель, заставила Милягу замолчать. Интересно, как долго еще нуллианакам придется дожидаться своей награды? В отсутствие дыхания и сердцебиения чувство времени оставило его, и он не представлял себе, сколько минут прошло с тех пор, как он покинул тело на Гамут-стрит — две, пять, десять? Но, в сущности, это не имело значения. Теперь, когда Доминионы примирены, Хапексамендиос может выбрать любой удобный момент, и Миляге оставалось утешать себя только тем, что проводник его по-прежнему рядом, и, стало быть, призыв к оружию еще не прозвучал.
Постепенно скорость и высота полета стали падать, и вот они уже парили в нескольких дюймах над улицей. Отделка окружающих домов приобрела гротескный характер: каждый кирпич и камень был покрыт тончайшей филигранной резьбой. Но в этом лабиринте орнаментов не было красоты — одно лишь слепое наваждение. Их избыточность производила впечатление не живости и изящества, а болезненной навязчивости, словно бессмысленное, безостановочное кишение личинок. Тот же упадок поразил и краски, нежностью и разнообразием которых он так восхищался на окраинах. Оттенки и нюансы исчезли. Теперь все цвета обрели невыносимую яркость алого, но эта кричащая пестрота не оживляла атмосферу, а, напротив, делала ее еще более гнетущей. Хотя прожилки света по-прежнему струились в камнях, покрывавшая их резьба поглощала сияние, и на улицах царил унылый сумрак.
— Дальше я не могу тебя сопровождать, Примиритель, — сказал нуллианак. — Отсюда ты отправишься один.
— Может быть, я скажу Отцу, кто нашел меня? — сказал Миляга, надеясь, что лесть поможет ему выманить у нуллианака еще какую-нибудь полезную информацию.
— У меня нет имени, — ответил тот. — Я — это мой брат, а мой брат — это я.
— Понятно. Жаль…
— Но ты предложил оказать мне услугу, Примиритель. Позволь же мне отблагодарить тебя.
— Да?
— Назови мне место, которое я уничтожу в честь тебя — город, страну, что угодно.
— Но зачем мне это? — спросил Миляга.
— Ведь ты — сын своего Отца, — ответил нуллианак. — Стало быть, ты хочешь того же, что и Он.
Несмотря на всю свою осторожность, Миляга не смог выдавить из себя ни слова и наградил разрушителя кислым взглядом.
— Нет? — спросил нуллианак.
— Нет.
— Стало быть, нам нечего друг другу подарить, — сказал он и, не произнося больше ни слова, взмыл ввысь и полетел прочь.
Миляга не пытался остановить его, чтобы спросить, куда идти дальше. Перед ним открывался только один путь — в сердце этого метрополиса, полузадушенное кричащими красками и навязчивой отделкой. Конечно, он обладал способностью двигаться со скоростью мысли, но ему не хотелось тревожить Незримого, и он опустился в ослепительно яркий сумрак улиц, чтобы принять обличье скромного пешехода. Дома, мимо которых ему пришлось идти, были настолько изъедены орнаментом, что, казалось, вот-вот рухнут.
Подобно тому как великолепие окраин уступило место упадку, упадок в свою очередь уступил место патологии. То, что окружало Милягу, вызывало теперь не только неприязнь или отвращение, но и самую настоящую панику. Интересно, с каких это пор излишества стали производить на него такое угнетающее впечатление? С каких это пор он стал таким утонченным? Он, грубый копиист? Он, сибарит, который никогда не говорил «хватит», а тем более — «слишком»? И в кого же он теперь превратился? В эстетствующего призрака, доведенного до ужаса видом города своего собственного Отца?