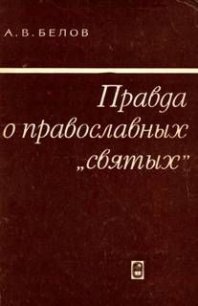Летописи Святых земель - Копылова Полина (книги онлайн полные версии txt) 📗
– Нет пока. – Ниссагль тонко улыбнулся. – Мальчишке четырнадцать лет, и у него не то воспитание.
Иоген Морн говорил о вразумлении своем, да так ловко, что ухитрялся выглядеть вполне достойно.
Беатрикс смеялась, кромсала на блюде золотым изогнутым ножичком редчайшую снедь, перешептывалась с Авенасом, прикрывая подкрашенные глаза, а тот отвечал ей неизменно влюбленным взглядом. Любовь хорошо видна в таких глазах, как у Авенаса, но ведь именно такие глаза никогда не видят лжи раскрашенного лица. Никогда. Вот он налил ей вина из хрустального сосуда в пустой кубок, легко и заботливо, без смешной и жалкой суеты, с какой служат дамам влюбленные пажи. Она ласково улыбнулась. О, лучше бы Беатрикс была грубой уродкой! Лучше прямое несовпадение во всем, чем этот язвящий душу разрыв между прекрасным и приукрашенным! Ведь всем всё понятно! Морн величаво улыбается, глядя на них, Раэннарт с Вельтом намеренно отворачиваются. О, как она умеет лгать, эта ловкая говорящая кукла! Она замучает этого мальчика, она втравит его в беду, она помутит его разум! Резала глаза белизна ее атласной шемизетки, нарочито укрывающая грудь до горла. Если б знать, что она ему говорит, что она ему уже сказала, что еще только скажет в пылу притворной страсти!.. А впрочем, зачем ему, Эринто это знать?..
В сторону Эринто Беатрикс не повернулась ни разу, словно его не было за столом.
Поднялся Ниссагль и провозгласил шуточный тост за палачей, сказав с улыбкой, что все есть палачи Господа Бога и в любой час он может руками людей свершить Божье возмездие, а потому надо выпить за палачей. Тост был последним, и уж такие гости собрались на этом пиру, что и годы спустя иначе как Пиром Палачей его не называли…
Потом танцевали, и Беатрикс не расставалась с Авенасом, зачастую рука об руку выходя с ним из круга, где похотливо изгибались танцующие с выражением сытости на лицах.
Потом снова накрыли столы, принесли легкие, острые и сладкие кушанья, множество хороших вин в сосудах, выточенных из цельного хрусталя. Все неторопливо насыщались. Пир плыл в ночи, словно тяжкая роскошная галера, с Эринто никто не заговаривал, и сам он не заговаривал ни с кем, только порой ловил на себе наблюдающий взгляд Ниссагля и был ему благодарен хоть за такое внимание.
Раин стоял в одиночестве, сложив на груди скованные руки и понурив белокурую голову. Вокруг него на пять шагов было пусто, как вокруг зараженного львиной хворью, даже стража стояла в отдалении, – да, собственно, что он мог бы сделать, один и скованный?
Словно очнувшись, Раин прошел на середину залы и объявил о песенном состязании в Круглом чертоге. Все двинулись туда. Там было прохладнее, сводчатый потолок подпирали тонкие желобчатые колонны. Было приготовлено много кресел, так, чтобы хватило на всех дам, и скамеечки с подушками для их поклонников. Все расселись. Беатрикс и Авенас, словно супруги или нареченные, заняли два самых высоких, застеленных белым мехом кресла. На треножниках стояли золотые блюда со сластями, свечи наполняли воздух изысканными ароматами.
Певцов тоже вызывал Раин, развернув в скованных руках пергамент с именами. Менестрели были в основном местные, и лишь несколько – из Марена и Элеранса. Слушатели грустили, мужчины полулежали в ногах у дам, и лица их были более томны, чем у женщин.
Эринто выступал последним. Двое пажей вынесли для него на подносе старинную дивной, красоты лютню, задрапированную в белый затканный серебром шелк.
Эринто неспешно опустился на табурет, положил лютню на колени и на миг замешкался.
Теперь Беатрикс сидела прямо перед ним и была видна отчетливо, каждый волос ее длинного парика. Лицо ее, сильно и искусно накрашенное, вблизи казалось еще более неживым, деревянным или каменным, как у статуи.
На правой руке была надета довольно большая алая перчатка, – он хорошо разглядел ее, когда Беатрикс, ласкаясь, накрыла этой рукой руку Авенаса. Алая перчатка выглядела зловеще, словно являла собой какой-то порочный знак – несмываемое кровавое пятно, когти или шестой палец.
Эринто заиграл и запел, глядя в упор на Авенаса, прямо в его близкие глаза. Он постарался вложить в исполнение баллады негодование и скорбь, он жаждал дать своим словам силу заклятия, чтобы они сняли с глаз Авенаса пелену, нарисовали бы образ Красоты, неизмеримо далекий от этой лживой накрашенной женщины. Звуки бились, словно вода в роднике. Лица слушающих затуманились. Лютня звенела горестно, а в голосе певца словно открылась последняя глубина, и изливались оттуда печаль и боль.
Все тщета и суета, лишь раскрашенная кукла ненаглядная твоя, рыцарские цепи блещут на груди у подлецов, только вслушайся и тут же ложь от правды отличишь, и покажутся тенями те, кого живыми мнил, с ликов темных и недобрых сразу маски опадут – эти слова звучали в душе Эринто, но не срывались с его губ.
Ему чудилось, что в круг входит принцесса в серебряной лунной маске и слезы ее текут по серебру, застывают на платье маленькими мерцающими камнями. Потом ее образ истаял. Под рокот струн, негромкий и угрожающий, возникло другое видение: Беатрикс – с пеной у посиневшего рта, с черными мокрыми глазами животного, – она хватала скрюченными пальцами воздух, задыхалась, корчилась в неистовой звериной жажде жить…
И вдруг все рассыпалось – он увидел напротив себя ее нынешнее спокойное лицо с пустыми глазами. Авенас искоса глядел на нее – влюбленно. Живая и гордая краса его была еще явственнее. Почему, почему же он не замечает ее лживость? Почему не ищет равную себе для служения? Почему остановился и не хочет видеть ничего дальше глаз Беатрикс? А она через несколько минут прошепчет ему, нарочито запинаясь (якобы от волнения), что героиня этих баллад…
Вокруг, подпирая щеки, вздыхали растроганные предатели.
В припадке внезапного гнева Эринто хотел оборвать песню бессмысленным воплем и швырнуть лютню об пол – но лишь крепче сжал ее и допел до конца, сказав глухо: «У меня нет более песен для вас».
Зашелестели хлопки, вспорхнули к потолку вздохи, прозвучали сказанные вполголоса хвалы.
Руки Беатрикс (левая тонкая, белая, прекрасная, правая – в большой красной перчатке) не шевельнулись. Она только закивала головой в короне. Корона была ей к лицу – тяжелая, с мертвенно-тусклыми камнями неестественной величины.
– Что хочет в награду Золотой Голос Святых земель? – послышался обычный вопрос.
– Беседы наедине с владычицей Эманда, – сказал Эринто быстро и глухо, чтобы не успеть испугаться.
Беатрикс улыбнулась с приличествующим случаю изумлением.
– Престранное, хотя и невеликое требование. Он против воли восхитился легкостью, с которой она играла любую из своих ролей. Краска придавала притворству достоверность. Она встала, кивнула зардевшемуся Авенасу и левой рукой дала Эринто знак следовать за ней. Они вышли в темную холодную галерею – крытый мостик между близко стоящими башнями, освещенный одним факелом. По кирпичному полу тянуло сквозняком. Отблески пламени прыгали по смолянисто-черным чешуйкам мелких стекол. Беатрикс обернулась – в мятущемся свете огня лицо ее постоянно менялось, точно сотни обличий скользили по нему и не могли удержаться.
– Что тебе угодно?
– Перестань притворяться. – Он держал лютню на отлете, как некогда лунную маску.
– Я и не притворяюсь. – Голос был низок и спокоен. Кажется, в этот раз она действительно не притворялась. С бесправными пленниками можно играть в открытую.
– Сейчас нет. С Авенасом – да.
– Ты ревнуешь?
– Его к тебе.
А «Я не знала, что ты мужеложец!» – могла бы сказать она и рассмеяться громко и торжествующе, но вместо этого сказала тихо:
– Объясни.
– Ты ему лжешь, Беатрикс. Я не хочу, чтобы ты лгала ему. Он недостоин твоей лжи и твоих обольщений, он не игрушка. Он ангел.
«Если он ангел, то сам разберется во лжи и обольщениях, в отличие от тебя, мой милый», – должна была промурлыкать она с довольной издевательской улыбкой.
– Чего же достоин ангел?
– Принцессы. Он достоин принцессы в маске. Его красота столь велика, что рядом с ней может быть лишь, великая тайна, а не твое низкое притворство. Ведь на этом самом месте, в это самое время ты способна лгать ему про Последнюю Легенду, как лгала мне. Я понял твой замысел, понял, к чему были нужны мои песни. И я не хочу помогать тебе в этом, и не буду. Я не допущу. Даже если мне придется умереть.