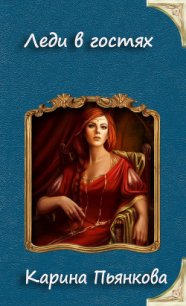С ключом на шее (СИ) - Шаинян Карина Сергеевна (лучшие книги без регистрации .TXT) 📗
— Люди не позволят…
Ольга пожала плечами:
— Вы — псих, я — медсестра. Никаких вопросов. И, главное, вам не надо будет больше никого искать. Голодный Мальчик сам вас найдет. Будет поджидать сразу после укола.
— Вот, значит, как ты его зовешь, — дрожащим голосом выговорил дядь Юра. Быстро облизал сухие губы, загипнотизировано глядя на сверкающую каплю, замершую на конце иглы. — Он тебе нравится, да? Ты с ним заодно. Я сразу должен был понять. Еще когда вы лампочки в моем подъезде били, чтобы ему в темноте проще подобраться… Ты вообще представляешь, что вы творили? Ты вообще не знаешь, а я знаю! Я-то знаю! Лучше смерть, чем такое! Я людей спасал, хотел его найти, остановить, чтобы он больше никого не забрал. А у тебя даже не шевельнется ничего, у тебя же ни совести, ни жалости… Откуда тебе знать…
— Откуда мне знать, — повторила Ольга и дернула носом.
Она приезжает в больницу каждый день после школы, чтобы вымыть полы в вестибюле или в отделении овощей. Ей не приходится подходить к буйным — так устроила мама. Но Ольга не боится шизиков и алкашей, поймавших белочку. Те, кто по-настоящему ее пугают, лежат как раз в палате хроников. Когда она заходит туда впервые, ей кажется, что Груша сейчас поднимет голову. Тусклые глаза с хрустом провернутся в заросших ягелем глазницах и сойдутся на ней. Серый палец, похожий на мертвый кедровый сучок, уткнется в грудь.
Поначалу она не может заставить себя подойти к кроватям Груши, Егорова и Дени ближе, чем на несколько метров, и моет только там, куда дотягивается шваброй. Но день проходит за днем, а они так и лежат с закрытыми глазами, почти неподвижные, и только изредка испуганно мычат в полусне. Они ничем не отличаются от остальных. Вовсе не страшные. Вообще в психушке нет ничего страшного.
Правда, в соседней палате, маленькой и всегда запертой, иногда кто-то орет так дико, будто его режут ножом. Когда Ольга слышит этот крик первый раз, волосы у нее встают дыбом. «Напугал его кто-то до усрачки, вот и орет, — небрежно объясняет сестра-хозяйка. Она маленькая, круглоголовая, и волосы у нее такие черные, что отливают синевой. Ольге она очень нравится, потому что немножко похожа на бабу Нину. Сестра-хозяйка быстро смотрит по сторонам — не слушает ли кто — и шепотом говорит: — Говорят, он жену свою до петли довел. Изменял ей с одной разведенкой, медсестрой из горбольницы, она и не выдержала. А он тут же к любовнице побежал, даже похоронить толком не успели… А на сороковой день ему жена и явилась… — сестра-хозяйка весело смотрит на ошарашенную Ольгу и со смаком добавляет: — Синяя вся. Тут у кого хочешь крыша съедет…». Ольга понимающе кивает. Конечно, дело в мертвой жене. «Так ему и надо», — говорит она с хищной ухмылкой, и санитарка хмурится: «Ты что, нельзя так, больной же человек…». Мужик, запертый в палате, орет часто, и через несколько дней Ольга перестает вздрагивать от его крика.
На пятый или шестой день она заходит в палату хроников и видит рядом с Грушей женщину в мятой серой юбке и розовой кофте в катышках. На Грушиной тумбочке лежит яблоко, яркое, как лампочка. Ольга ставит ведро, расплескивая воду, и женщина поворачивает на звук опухшее лицо с по-детски приоткрытым ртом. Ее блондинистый начес примят, будто на голову женщины давит что-то невидимое, но невероятно тяжелое. Что-то, готовое раздавить — или уже раздавившее.
— Вы чего здесь? — спрашивает Ольга, покрепче цепляясь за швабру, и женщина бросает тревожный взгляд на часы.
— Так посещение же, — говорит она. — До пяти же… Можно ведь?
Ольга пожимает плечами.
— Ему вроде получше сегодня, — говорит женщина с жалкой, дрожащей улыбкой. — Я только вошла, а он такой: мама…
Лицо Ольги каменеет. Она снова пожимает плечами и обмакивает тряпку в ведро. Металлическая ручка звякает; потревоженный Груша шлепает губами и беспокойно мычит.
— Вот, слышите, опять! — торжествующе говорит его мама и поправляет одеяло. — Да, сынок… здесь я… Вы хороший человек, я по лицу вижу. Вы уж присматривайте за ним, ладно?
— Сами присматривайте! — взвизгивает Ольга. — Я тут полы мою!
Женщина отшатывается от ее крика; ее глаза сигают в сторону, и в них появляется хитреца. Она вдруг хватает потертую сумочку и принимается в ней копаться.
— Вот, — говорит она, — я тут оставлю, вы уж приберите… Ну, чтоб уход ему получше…
Она выкладывает на тумбочку мятую купюру, и у Ольги темнеет в глазах.
— Я тут полы мою, — повторяет она, — я его не трогаю, понятно? — женщина смотрит на нее с приоткрытым ртом, обиженно поджимает губы и снова принимается копаться в сумке. Ольга топает ногой, попадает по тряпке, — влажный, сосущий, болотный звук. — Уберите, а то нажалуюсь! — рявкает Ольга, и Груша жалобно хныкает. На соседней койке беспокойно ворочается Егоров. — Я уборщица! — кричит Ольга. — Я к нему вообще не прикасаюсь, я его не трогала никогда, ясно вам?! И вообще приемные часы уже закончились, я врачу скажу, вас больше не пустят!
Грушина мама бросает на нее затравленный взгляд, и ее отдуловатое лицо собирается в складки. Прижав сумку к груди, она срывается со стула и выскакивает из палаты. Несколько секунда Ольга смотрит на деньги, освещенные радостным, оранжево-красным яблоком. Так и не придумав, что с ними делать, она подхватывает ведро и, кренясь набок, выходит в коридор. Она отмывает его до блеска, а потом драит вестибюль, пока рабочий день не заканчивается. На следующий день тумбочка Груши оказывается пуста; вместе с деньгами исчезает и яблоко, и Ольга вздыхает с облегчением.
Так она понимает, что наказание настигло ее. К хроникам приходят редко, но все-таки приходят. Ольгу бесят эти сопли: как они не понимают, что все кончено? Почему они такие тупые, что продолжают надеяться? Они сами виноваты, говорит себе Ольга и трет пол так яростно, что задевает грязной шваброй аккуратные сапожки Денькиной сестры. Нечего было к нам лезть, думает она, протискиваясь с полным серой воды ведром мимо Грушиной мамы. Семья Егорова топчется вокруг кровати, и Ольга угрюмо елозит тряпкой вокруг их ног: наследили тут. Зачем приперлись? Неужели не доходит, что уже ничего не поделаешь?
Посетители не смотрят на хамоватую уборщицу в синем халате, с волосами паклей, лезущими из-под темной косынки. Ее сторонятся, не замечая, обходят машинально, как лужу мазута, пролитую на дорогу. Им не до того. Они теребят своих наглухо высосанных овощей за неподвижные руки. Суют под подушки вырезки из газет с заговорами на выздоровление и ставят на тумбочки банки с заряженной Чумаком водой, и обтирают этой водой бессмысленно-безмятежные лбы. Они суют подарочки медсестрам и подобострастно расспрашивают врача. Они заняты: они надеются. И думают, думают, думают: как же так получилось? Кто виноват?
Уж точно не угрюмая уборщица в темно-синей броне рабочего халата.
…Фильку она встречает лишь однажды — когда чуть опаздывает и застает его, гуляющего по двору среди голых тополей. Фланелевая куртка Фильки застегнута не на те пуговицы, а из пижамных штанов свисают стыдные белые веревочки кальсон. Узнав Ольгу, Филька делается свекольным, отворачивается, прикрывая лицо рукавом, и она проходит мимо, не сказав ни слова. Ей нечего сказать. Она ни в чем не виновата.
7
— Сука! — заорала Яна и ударила ножом. Он со скрежетом скользнул по металлу, и на затупившемся лезвии появилась выщерблина. — Сука! Сука!
Железный штырь, одним концом уходящий в стену, а другим — в недра дверной коробки, проглядывал из развороченных остатков штукатурки и монтажной пены, как жирный минус. Яна, задыхаясь, отступила от двери. От ярости стучало в ушах, и за этим грохотом едва слышался голос разума, который говорил: эта железка не случайна. Их наверняка несколько. Именно на них дверь и держится, так она и устроена… От этого знания хотелось рыдать и лупить кулаками по неумолимому металлу. Яна провела по лицу, удивленно посмотрела на белую от пыли ладонь и отступила. Глубоко вдохнула, медленно, очень медленно выдохнула. Не такой уж этот штырь и толстый.