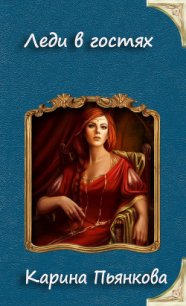С ключом на шее (СИ) - Шаинян Карина Сергеевна (лучшие книги без регистрации .TXT) 📗
— Довольна? — ледяным тоном спрашивает теть Света. — Опять из-за тебя поссорились. Нравится тебе, да?
Яна чередует иксы и игреки, как попало впихивая среди них цифры. На носу набухает капля, вот-вот свалится на тетрадь. Все равно переписывать.
— Пошла вон отсюда, — говорит теть Света.
Яна хватает учебник с тетрадью и боком выскакивает из комнаты).
— Ты не понимаешь, — говорит она Ольге. — Так нельзя…
— Чего нельзя?
— Ну… ябедничать…
Ольга осекается, растеряв всю воинственность, и задумчиво хмурится. Филька оседает, как сдувшийся воздушный шарик, сколупывает с подоконника чешуйку краски и вдруг оживляется:
— Не, погоди! Это же дух. Это ведь не то же самое, что училке рассказать или бабушке.
— Вот именно! — подхватывает Ольга. — Он же ненастоящий. Ты же не стучать ему будешь, а колдовать, правильно, Филька?
Тот нерешительно кивает. Яна упрямо мотает головой.
— Все равно… — она с сомнением смотрит на Ольгу, и ее осеняет: — Тебе же не нужно никакой защиты, у тебя мама добрая, и Егорова ты можешь побить без всяких духов! Тебе просто поколдовать охота!
— А вот и нужно! — упирается Ольга и презрительно кривит губы: — Да тебе просто слабо. Это же надо на кладбище ночью идти, да, Филька?
— Не обязательно ночью, — серьезно отвечает Филька. — И духи не являются кому попросишь. Что, думаешь, пожаловалась, и он такой полетел наругать кого скажешь?
— Ну да. Прилетает такой и… — Ольга делает зверское лицо, трясет указательным пальцем и закатывается от смеха. При виде вытянутого пальца Яну тоже разбирает; не выдержав, она прыскает и зажимает рот ладонью.
— Чего вы ржете? Это опасно, между прочим. Сделаешь что-нибудь не так — дух тебя с собой утащит. Или вообще растерзает.
Ольга закатывает глаза и разводит руки, тянет: «У-у-ууу». Но Яну вдруг продирает ледяной холод.
— А если сделать все правильно — что тогда? — тихо спрашивает она. — Не, серьезно?
— Может, он сделает так, чтобы от нас просто отстали. — На мгновение лицо Фильки становится мечтательным, но быстро мрачнеет: — Только мы на кладбище не попадем, нас по-любому застукают. Так что это все просто треп.
Яна прикидывает: кладбище где-то за городом, с западной стороны. Наверное, Ольга знает, как туда попасть, она знает кучу всяких взрослых вещей. Яна поднимает глаза, смотрит на подругу. Та беззвучно шевелит губами, решительно качает головой.
— Туда, наверное, часа три идти, — говорит она. Филька тоскливо вздыхает:
— Три туда, три обратно… И там хотя бы час… Если я на семь часов уйду — у бабушки инфаркт будет.
— Давай скажем, что поход с классом, — предлагает Ольга.
— Ага… она класснухе начнет названивать, узнавать.
— А давай…
Яна отключается. С кладбищем, конечно, ничего не выйдет, но Филька сам сказал, что это только пример. Он сказал, что нужно нехорошее место, и Яна такое знает. Странное место, страшное место, подписанное иероглифами-паучками.
Только рассказывать о нем совсем не хочется.
…Где-то в восемь вечера теть Света смотрит на часы и говорит, что по-хорошему Яна должна играть гаммы всю ночь, но — хватит издеваться над соседями, пусть займется сольфеджио. Верхний свет выключен; горит лишь торшер в углу и настольная лампа на столе для уроков. В их теплых пятнах маленькая комната, в которой теть Света и Лизка спят, а Яна делает уроки, кажется одновременно уютной и страшной. Яна наощупь убирает скрипку — целую, не разбитую, чудом не пострадавшую в драке — в чехол, открывает нотную тетрадь с заданиями на лето, пытается примоститься на стул боком, чтобы не давить на горячие, вздувшиеся полосами синяки на попе. Ничего не получается, и в конце концов Яна залезает на стул коленками. Она ждет окрика, но теть Света молчит. Яна надеется, что она уйдет, но та остается в кресле, которое на ночь раскладывается в Лизкину кровать, с раскрытой книгой на коленях. Это — «Гадкие лебеди» Стругацких; на двадцатой странице Яна оставила пятно, когда, зачитавшись, схватилась за нее испачканной конфетой пальцами. Но, кажется, теть Света ничего не заметила — книга прочитана уже до середины, а она так ничего и не сказала. Ее присутствие ощущается ноющей болью под левой лопаткой, в сведенной от напряжения мышце. Нотные строчки пляшут перед глазами. Изо всех сил нажимая на карандаш, Яна транспонирует «Перепелочку». Ненавистная заунывная мелодия преследует ее с подготовительного класса.
Она почти заканчивает, когда приходит папа. Теть Света идет его встречать, но Яна в коридор не выходит — только еще яростней тычет карандашом в линейки нотного стана. Она различает три голоса — папа пришел не один, с дядей Юрой, и теть Света зовет его выпить чаю. Минуту Яна надеется, что он согласится, а то и останется на ужин, а если совсем повезет — засидится с папой до ночи за бутылкой. Но дядя Юра отнекивается даже от чая, забирает какие-то брякающие железки и уходит. «Так договорились на послезавтра?» — спрашивает папа уже в подъезд, и дядя Юра угукает в ответ. Эхо прокатывается на лестничной клетке; папа захлопывает дверь, отсекая гул и уличную прохладу. Запертые в тепле звуки становятся плоскими и тусклыми, как детсадовская аппликация из облезлой бархатной бумаги.
— Эта опять опозорилась, — доносится из коридора. — Хоть бы ты с ней поговорил, может, дойдет. В конце концов, это твоя дочь.
Вскоре отец заходит в теть Светину комнату. Яна не поворачивает головы; она узнает, что он здесь, по звуку, по запаху, по тени, упавшей на стол. От папы пахнет табачным дымом и машинным маслом: «Нива» опять барахлит, и он весь вечер возился в гараже. Папа с тяжелым вздохом садится в кресло, и пружины жалобно всхлипывают под его весом. Он подбирает с пола дневник, который так и валяется там, куда его швырнула теть Света. Яна слушает, как шелестят страницы. Слушает, как папа вздыхает, покашливает, возится, устраиваясь поудобнее.
— Как же так, — говорит он грустно, и из глаз Яны прямо на тетрадь начинают капать слезы. Какая-то ее часть отстраненно рассматривает влажные пятна на бумаге — круглые, как монетки.
— Ну что ты сразу реветь начинаешь, — с досадой говорит папа. — Напортачила — отвечай, что теперь рыдать? Мы из шкуры вон лезем, чтобы сделать из тебя человека, ты бы хоть немного постаралась!
Мокрые пятна на тетрадном листе расплываются, выпускают короткие лучики-колючки. Мохнатые, словно репейники. Если смотреть достаточно пристально, колючки начинают шевелиться.
Папа громко захлопывает дневник.
— Будешь все лето заниматься по пять часов в день. И не смей обижаться на Светлану — ей, как женщине, виднее, как тебя воспитывать. Она добрейший человек, она все для тебя делает, и ни капли благодарности. Да прекрати ты свои крокодильи слезы лить! Надо же быть такой актрисой…
Он барабанит пальцами по подлокотнику, покашливает, прочищая горло.
— А может, ты просто не хочешь учиться в музыкальной школе? — сочувственно спрашивает он.
Яна поворачивается к нему так резко, что едва не падает со стула. Глаза почти вылезают из орбит. Сердце замирает — а потом несется вскачь от дикой, иступленной надежды.
— Не хочешь категорически, да?
Яна медленно, едва заметно кивает. Папа тяжело вздыхает.
— Ну ладно, — говорит он. — Хочешь быть серостью — ладно, ничего не поделаешь. Раз ты настолько не любишь музыку — можешь бросить. Жалко, конечно…
Яне хочется улыбаться во весь рот, хохотать, прыгать с визгом и воплями, — но она только бледно улыбается, пытаясь выразить одновременно и благодарность, и сожаление. Вряд ли у нее хорошо получается — но папу, видно, устраивает: он удовлетворенно кивает.
— Хорошо, завтра я позвоню Ирине Николаевне и скажу, что ты больше не будешь учиться. А ты становись в угол. Что ты вылупила глаза? Без музыкальной школы у тебя освобождается масса времени. Делать тебе все равно нечего, значит, будешь это время стоять в углу. А ты на что рассчитывала? Целыми днями валяться на диване? Или собиралась болтаться с пацанами по подвалам? И хватит рыдать! — рявкает он и бьет кулаком по подлокотнику. — Тоже мне, страдалица нашлась! Марш в угол!