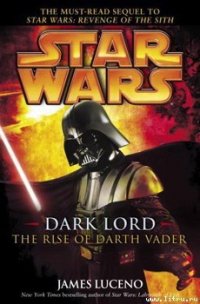Солдат удачи - - (полные книги TXT) 📗
Глава 20
Родина… Земля, за которую он сражался, проливал кровь и умер в первой своей жизни… Имя ее вернулось к нему как нежданный подарок, как вспышка пламени в ночном холодном мраке.
Франция! Родина!
Ла белле Франс, прекрасная Франция, а не Гасконь.
Впрочем, Гасконь была ее неотъемлемой частью, и стоило только подумать о ней, как замер круговорот пространств, раскинувшихся внизу, и перед ним замелькали иные картины. Стол под раскидистым каштаном, он – на коленях матери, рука отца протягивает глиняную кружку; потом – винный вкус на губах, впервые в жизни… Снова рука отца, жилистая, смуглая, но в ней не кружка, а шпага; Дарт касается рукояти и знает, что это тоже в первый раз… Старая смирная лошадь, потертое седло, уздечка в тонких детских пальцах… овцы, которых гонят по пыльной дороге… на деревянном блюде – свежий сыр с острым запахом, тающий во рту… давильня с огромными чанами и босоногие девушки, что пляшут в них… Одну он целовал на винограднике – тоже впервые…
Да, Гасконь была всего лишь частью Франции, но самой любимой, согретой детскими снами, овеянной памятью юности. Были и другие домены, герцогства и графства, названия коих трепетали на его губах, – Нормандия, Бургундия, Прованс, Бретань, Наварра, Пуату… Были реки, Сена и Луара, Гаронна и Дордонь, были города – Париж и Бордо, Дижон и Нант, Марсель и Тулуза, Реймс и Лион… Древние, овеянные славой имена! Как он мог позабыть их? Сейчас это казалось непостижимым.
Вспомнить остальное… здесь, у этой стены, которая возвращала прошлое не скудными каплями, а бурным неудержимым потоком… Вспомнить все – лица людей и обстоятельства разлук и встреч, годы службы, битвы и раны, приобретения и потери, удачи и неудачи, горе и радость, страх и торжество; вспомнить даже такое, о чем он не хотел бы вспоминать, – ту белокурую ведьму, казненную под Армантьером… Вспомнить, кто бы ни одаривал его минувшим и забытым – сам ли Предвечный или какой-то прибор, изобретение Детей Элейхо, скрывшихся во тьме… Или, как обмолвился Джаннах, ушедших к свету?
Он не додумал этой мысли; другая завладела им – желание знать свое имя, то настоящее имя, которое дали отец и мать, которое носил он с честью и под которым погиб. Дартом он был на Анхабе, но кем – на Земле? Как его звали в Гаскони и в прекрасной Франции? А также в других местах, где он побывал, сражаясь во славу отчизны и короля? Шевалье? Солдат, лейтенант, потом – капитан, генерал и маршал? Нет, то были лишь звания и титулы, редкие вехи жизненных троп, а между ними, всякий день и час, он оставался самим собой, слитым с собственным «я», соединенным с именем… Каким же?
Память о нем хранилась в Гаскони. Он попытался представить ветшающий замок, гнездо их обедневшего рода – и замок явился ему, однако не старым, полуразрушенным, а в виде огромной скалы, царившей над пустыней из песка, сияющего радужными блестками. Не замок – цитадель со множеством высоких гордых башен, с балконами и галереями, повисшими над бездной, с провалами бойниц, окон и врат, спиралями лестниц и водопадами, сбегавшими с зубчатых стен. Такого не было в Гаскони. Не было ни во Французском королевстве, ни в итальянских и испанских землях, ни на Британских островах или в заморских странах, ни на востоке, ни на западе… Такого не было на Земле.
Сказочный Камелот среди эльфийских полей…
Повинуясь руководившей им воле, он должен был попасть туда, что-то вспомнить, что-то увидеть и услышать. Туда, а не в Гасконь…
Он летел над пустыней, но не в лодке-трокаре, а по-прежнему несомый ветром, подгоняемый его порывами, то опускаясь к песчаным барханам, то взлетая вверх и кружась в потоках жаркого сухого воздуха. Камелот надвигался, пронзая небесную синь остроконечными шпилями; воды струились по его обрывистым склонам, цветы и зелень деревьев расцвечивали бурую поверхность камня, а на террасах голубели крохотные озерца. В них отражались плывущие в небе облака и замки из хрусталя и серебра, висевшие под ними. Выше облачной гряды застыло зеркало энергетического накопителя. Дарт видел, как его поверхность внезапно затуманилась – пошел дождь, легкий и светлый, таявший в воздухе, не достигавший земли.
Теперь он парил у галереи с деревьями, цветами и каменными изваяниями плачущих женщин. Одна из них, похожая на птицу, простирала крылья над аркой и широким незастекленным проемом – его овал был полон мягкого сияния и так знаком, как может быть знакомо лишь жилище, привычное и обжитое за десятилетия. Справа от окна-проема рос куст с мелкими, но ароматными цветами; иногда они были желтыми, иногда – алыми или лиловыми.
Женщина-птица приблизилась, мелькнули своды невысокой арки, яркий свет сменился золотистым сумраком, светлое дерево панелей закрыло камень. Дарт был дома – не в Гаскони и не в Париже, а на планете Анхаб, где началась его вторая жизнь и где она текла – между звездами и этими чертогами, что даровал ему Джаннах. Тут было все, к чему он привык и что отчасти напоминало Землю: упругое ложе под шелковым балдахином, менявшие форму массивные кресла, шкафы с резными дверцами, отворяющиеся по хозяйской воле, подсвечники, отлитые из бронзы, сиявшие огнями вечных ламп, ковры и гобелены, превращавшие пыль в тепло и свет, столы-экраны и зеркала, тоже бывшие экранами, посуда из небьющегося хрусталя и мраморные камины – правда, пылавшее в них пламя питалось не дровами и не обжигало рук. Если не считать таких накладок, покои были королевские: гостиная – как тронный зал, вполне пригодный для посольского приема, трапезная размером с церковь Сен-Жермен-де-Пре, бассейн, автоматическая кухня, кабинет и спальня, где разместился бы гарем турецкого паши.
Там, в спальне, он и очутился. Он стоял у необъятного ложа, напоминавшего привычную постель, и думал о спрятанных в нем таинственных приборах. О балдахине, навевавшем сон, о столбиках кровати, от коих, по желанию, тянуло запахами моря или леса, об изголовье, игравшем тихие мелодии, о простынях, всегда кристально чистых, то прохладных, то нагретых, будто их держали у огня, о добром десятке других устройств, что нежили, ласкали, покачивали, убаюкивали. Подобное было недоступно земным императорам и королям… Но хитроумные механизмы, ни порознь, ни вместе, не заменяли женщину. Ту, единственную, которую он желал.
Она ждала его на Галерее Слез. «Неподходящее место для последней встречи», – подумал Дарт и вышел из опочивальни.
Констанция сидела у цоколя статуи женщины-ундины. Чем-то они походили друг на друга – не так, как походят сестры или мать и дочь, а чем-то иным, неуловимым и смутным, что замечается не взглядом, а душой. Темные локоны до плеч, полуопущенные веки, гибкий стан и поворот головы, чарующий изгиб бедра… Лицо каменной девы было печально, лицо живой тоже не светилось радостью.
Грустит, не хочет расставаться? – мелькнула мысль. Сердце стукнуло и замерло; Дарт боялся этому поверить. Грусть ее была бы счастьем, редким жребием, даруемым судьбой не всякому мужчине; лишь горстку она наделяет талантом любви и только избранных – той женщиной, что может разделить ее, взрастить и сохранить. Такая удача не бывает дважды! Один раз выпала, но яд и мстительная злоба ее сгубили…
Он вспомнил ту, земную Констанцию, и сердце замерло опять – на этот раз не от надежды, а от горя. Та любовь была разделена, но он не смог взрастить и сохранить ее. Он не сумел – в той, первой жизни… Но если жизней – две, то, может быть, сумеет во второй? Две судьбы и две удачи… Так почему бы не поймать счастливый шанс?
Остановившись перед Констанцией, он всмотрелся в ее лицо, потом обвел взглядом каменных женщин. Деву-птицу, деву-змею, деву-русалку, деву-цветок и остальных, запечатленных в камне неведомым мастером в те времена, когда Анхаб был юн и переполнен жизнью. По грустным ликам дев медленно струились слезы, орошая пустыню щек, задерживаясь на холме подбородка и падая вниз редкими крупными каплями.