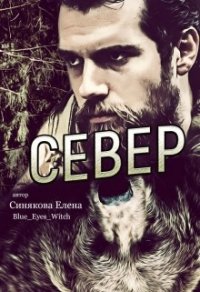Дороги Младших Богов - Сердюк Андрей (читать книги онлайн бесплатно серию книг .txt) 📗
— Нет, ну что ты! — туда-сюда Здоровая. — И уж точно не один-пять-девять.
— Это верно, — соглашается Больная.
И вновь замолкают, морщат лбы, типа вспоминают. А я жду. Являя неиссякаемое терпение. Ибо настроился. Когда я настроюсь, меня из себя тяжело вывести. Практически невозможно. Практически.
— Всё, вспомнил! — восклицает вдруг Здоровая и хлопает себя по лбу левой, единственной на двоих. — Записывай: два-семь-шесть.
А Больная молчит.
— Это окончательное ваше слово? — спрашиваю.
— Окончательное, — кивает Больная.
— Он правду говорит? — спрашиваю у Здоровой, кивая на Больную.
— Сроду он правды не говорил, — отвечает.
— Ну так что тогда?
— Говорю же: два-семь-шесть, — настаивает на этих самых цифрах правдивая Здоровая.
— Записывай-записывай, не сомневайся, он никогда не врет, — лыбится врунья Больная.
А сами уже лошадь разворачивают, клейменным свастикой крупом ко мне, мордой к взлетно-посадочной, — и в бока ей каблуками сапог. В стременах привстали, правой, одной на двоих, махнули — общий привет! — и на север, догонять улетевший табун. Только брызги из-под неподкованных копыт во все стороны. И дык-дык, дык-дык, дык-дык — как единственно возможная музыка сфер.
Я тоже сделал ручкой. И проводил взглядом до самых пределов.
А потом глянул на листок и так вот подумал: две головы, конечно, лучше, но кашу пивом не испортишь. Это я к тому, что нет таких загадок, которые не мог бы разгадать мозг, вмещающий в себя Вселенную со всеми ее загадками и отгадками.
И спрашиваю сам у себя: а ну-ка скажи, родной, почему это никто до сих пор не смог выудить рыбку истины из этого омута?
И сам себе отвечаю: потому как не того червя на крюк насаживали.
Потому как пытались понять, о чем правдивый лжец говорил. И зацикливались. И соскочить уже не могли.
Это большинство.
Те, кто помудрее, пытались прислушаться не к тому «о чем», а к тому «как». Это, без сомнения, мудрее. Но всё одно фигня полная.
Ну и как надо? — себя подгоняю.
Сейчас скажу, как надо, себе говорю.
И себе говорю: ну говори.
И так себе тогда сказал: слушать надо не то, о чем и как он говорит, а то, о чем он не говорит. Вот так вот оно правильней будет. Потому как истинное какао — это же невыпитое какао. По-любому.
Ну вот.
Как только я об этом подумал, так священная черепаха тут же и всплыла из глубин моего сознания, как со дна реки Хуанхэ.
Неправильно сказал. Хуанхэ — это и так Желтая река. Получается, сказал: «со дна реки Желтой реки». Масло масляное. Масло желтое и масляное.
Ладно. Короче, Глашкина прабабка, которую так и не сумел догнать Ахилл (чего я так и не догнал), всплыла на поверхность, я ее за клюв цап-царап, подтянул к берегу и с панциря ейного в листок к себе бодро перерисовал.
И принялся все комбинации сверять.
Всё назвали однояйцовые-двуяйцовые, кроме одной. Кроме вот этой — шесть, семь, два. Ее пропустили. Ну вот и ладушки, думаю. Значит, она и есть. Постановили-утвердили.
Запомнил: жил в шестом квартале, в первый класс в семьдесят втором пошел. Зажигалку достал и листочек с каракулями спалил от греха.
Проверил себя: шесть-семь-два. Нормально. Семь шестьдесят два проще было бы, конечно, запомнить, родные же цифры, почти как три шестьдесят две, но что поделать. Пусть так.
И к парням скачками. Без того уже времени порядком потратили. А у нас ведь был некий утвержденный график, следуя которому Серега нас всё время подгонял. Хотя, конечно, там имелся — как без него? — ефрейторский зазор, но тратить его впустую вовсе не хотелось.
Помимо графика определили нам еще, конечно, и курс — предписано было держаться всё время ста трех градусов. Это тоже строго соблюдали. Только в одном месте, уже ближе к вечеру, вынуждены были с данного направления свернуть: вышли на карьер — пришлось обходить. Крюк километра в три дали. Не меньше.
Кстати, возле этого карьера произошел с нами
небольшой инцидент. Случилось вот что.
Когда мы этот овраг песчаный, на дне которого догнивал скелет огромного, маменшизавроподобного, экскаватора, уже практически миновали, нарисовалась на нашем пути шайка-лейка из местных отморозков.
Подъехали на раздолбанном «уазике», развернулись лихо и вылезли.
Девять архаровцев.
Не вру.
По таким мелочам.
Не знаю, как уж они туда так плотно набились, но именно девять рыл (двое из которых пьяными были в сиську, трое — в драбадан, остальные — в умат средней степени адекватности) выползло из этого армейского внедорожника. И все как из одного — «ты че такой-то?» — инкубатора: черный низ, черный верх, походка ортопедическая, затылки в складку, лбы скошены, глаза нечеловечески бездонны и чисты — в том смысле, что суммарного интеллекта во всех этих залитых пустотой зенках было меньше, чем у одной моей черепахи. Короче, парни были не из тех, кто плакал, узнав о смерти мамы олененка Бэмби.
Но напрягло нас не это: три на одного — терпимые расклады. Напрягло то, что все эти яркие представители тупиковой ветви эволюции были вооружены. И не ножами-кастетами — это б еще ничего, — а автоматами. У них тоже «калаши» имелись. Только не АКа семьдесят четыре У, эксклюзивные и позолоченные, как у нас, а совсем старые такие АКаЭмы. Даже и не с пластиковыми, а с деревянными прикладами. В общем — антиквариат. Но функционирующий антиквариат.
Как только они заявились, так мы по их виду сразу всё и поняли. Поняли, что дело будет. Что вокзал-базар не проканает. Что предстоит выполнение комплекса синхронных упражнений на зачет.
Гошка стекло осторожно положил на землю, и мы изготовились — приняли положение для стрельбы стоя.
Смотрим на парней в прорези прицелов и ждем, что дальше? Отступать нам всё равно некуда. Даже Москвы позади нас нет. Ни Москвы нет, ни Сиэтла, ни России, ни Америки. Ничего нет — отсутствовала та реальность, куда бы отступить можно было. Вернее, куда нельзя нам было бы, конечно, отступить, потому как нет у нас такой привычки — отступать. А в тридцать девять уже не меняют привычек.
Они галдеть перестали, подошли поближе, окружили нас и тоже стволами ощерились.
Мы потихоньку вокруг стекла распределились и встали, как бывало при драках с маратовскими, — спина к спине. Я имею в виду, конечно, не тех маратовских, которые со скрипочками по улице Марата, а тех, которые с велосипедными цепями по предместью Марата.
Встали, в общем, мы кругом — такая тактика, как известно, вполне оправдала себя еще в войне первых американских фермеров против индейцев — и стоим. Они на нас смотрят, мы — на них. Постояли так — ни тудыма ни сюдыма — пару вечностей, пассионарности друг у друга пощупали на слабо, а потом один, который был у них за главаря, — мордатый такой, на бобра похожий, — заявляет гордо:
— Я Топорок.
Типа теперь мы должны обтрухаться, раз он Топорок.
— А я — Негорро, — отвечает ему Серега.
— Я здесь смотрящий, — предъявляет конь педальный.
А сам теперь целится в лоб Сереге. Определил равного.
— Что значит «смотрящий»? — «тупит» Серега. И целится теперь в лоб Топорку.
— Не сечешь, что ли? — удивляется Топорок. — Наблюдаю я тут за всем. Присматриваю.
— От ОБэЭсЕ?
— От тяжмашевских.
— И чего теперь?
— Да типа ничего, только вам за прописку надо пробашлять. Чиста конкретна.
— В смысле — денежку заплатить?
— В натуре, — кивает Топорок.
— Денежку — это можно, — соглашается Серега, — отчего ж не заплатить, раз такой порядок. Только бы нам тогда приходный ордерок… — И передразнивает: — Чиста конкретна шоб. И шоб — в натуре.
— Вот из этой штуки я тебе его в лоб и выпишу, — угрожает придурок и поигрывает стволом.
— Ладно, не гоношись, — говорит Серега, вроде как проникся таким качаловом, и просит Гошку: — Игорь Николаевич, там у меня в правом кармане лежит портмоне, не соблаговолите ли… А то мы тут с господином Топорком глаз не можем друг от друга отвести. Любовь у нас образовалась с первого взгляда.