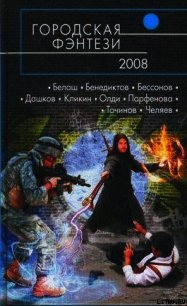Имя нам – Легион - Сивинских Александр Васильевич (бесплатная библиотека электронных книг TXT) 📗
– Кончай игру, братчики-матросики, макаронник приехал!
И смешал карточки.
Мама бросила вязание, Машенька завизжала, и началось! Вопросы и поцелуи сыпались со всех сторон. Племяшка карабкалась на руки, батя и зять Антоха гулко хлопали меня по свободным участкам тела, кто-то ощутимо щипал… в общем, неразбериха стояла полнейшая. Наконец я взмолился:
– Есть хочу! Накормят меня в этом доме свежим хлебом и молоком или нет?!
На женщин такие мольбы действуют безотказно. Давление резко ослабло, и почти одновременно на кухне загремела посуда. Поразительная скорость! Я и раньше подозревал, что у нас в избе установлен телепортер.
– Надолго приехал? – спросил батя.
– Нет, послезавтра надо возвращаться.
– Жалко… Антоха, ты баню затопил?
– Закрыл давно, – отозвался зять. – Скоро выстоится, идти можно будет.
– Ну, Филька, значит, готовься! – Отец кровожадно облизнулся. – Ох, я тебя сегодня и напарю!
– Вот к чему-чему, а к этому я всегда готов!
До отвала натрескавшись вкусными домашними харчами, я растянулся на полу и блаженно закрыл глаза. Поваляюсь часок, схожу в баньку, еще поваляюсь, а потом и Матроса навещу. Надо же у него узнать, у служивого, кто дал приказ на мой розыск – официальные органы или «Булат»? Потому как, если милиция или безопасность, то это серьезно. Они не остановятся и перед тем, чтобы с итальянскими коллегами связаться. А если это личная Аскера Мамедовича инициатива, то все намного проще. За три года моей командировки ой как многое может измениться. Никто про меня и не вспомнит через три-то года. Особенно, если я никому из главных действующих лиц недавней трагикомедии с мордобоем глаза мозолить не стану.
Ко мне подсела Ольга. Щелкнула пальцем по носу и спросила:
– Лежишь?..
– Лежу, – не стал я прекословить старшей сестре.
– Слушай, а как там… в Италии ?
Это «в Италии» она почти пропела.
– Там, сестренка, сейчас тепло!.. – так же пропел я в ответ. – Фрукты, мороженое, девчонки загорелые… Пицца, лазанья, кьянти… Фонтаны… Папа римский. Колизей, кошки, голуби. Феличита!
– Признавайся, язык учишь? – немедленно подключилась к перекрестному допросу строгая моя мама.
– А как же! – с поддельным воодушевлением отозвался я.
– Ну-ка, ну-ка, продемонстрируй, – засомневалась (и не без оснований) она.
Я поднапрягся и выдал:
– Аморе, рогацци! Аморе, аморе и еще раз аморе!
– То-то я и вижу, что одно только «аморе», – усмехнулась мама. – Аж почернел весь. Никак, успел уже итальяночку подцепить?
– Эх, мама, напрасно вы так о своем сыне думаете, – шутливо возмутился я. – Он же сурьезно робить на Апеннины откомандирован! Штудии, понимаешь, превосходить, а не шуры-муры гулеванить!
– Фи-иилька, – протянула она. – Ботало ты! «Робить сурьезно!» Что, я тебя не знаю? Только, поди, на девок и глядишь. Ты хоть нам оттудова сноху не привези.
– Да что угодно он тебе «оттудова» привезет, только не сноху, – вмешалась Ольга. – Дождешься от него, пожалуй, снохи. Скорей дядька Прохор пчел своих бросит…
– Завелись, – пробурчал батя. – Парню только двадцать четыре, он еще пожить не успел, а вы ему уже всю плешь переели со своей женитьбой. Пусть погуляет!
– Двадцать пять, – поправила его последняя, молчавшая до сих пор, представительница женской половины семьи, Машенька. – А гулять сейчас плохо. Дождичек на улице!..
Батя, натянув до самых глаз лыжную шапочку, возвышался надо мною, как гора, и немилосердно стегал сразу двумя здоровенными березовыми вениками. Я по давно заведенной традиции блаженно кряхтел и изредка охал. Ибо банное наслаждение сродни изощренному самоистязанию. В коем, как известно, бесчисленные поколения юродивых находили огромное наслаждение. Чем я хуже их? Тем, что телом чище?
– Сына, – позвал меня удивленно батя, – а куда шрам девался?
Я приподнялся на локте и уставился на правое бедро. Там, где еще недавно раскидывал кособокую свою паутинку беловатый паучок-многоножка, отмечавший затянувшуюся дырку от осколка, блестел пот, курчавились волоски, и розовела гладкая распаренная кожа. Больше ничего. Шрама как не бывало.
– Рассосался, – небрежно ответил я. – Римские экстрасенсы поспособствовали. Пара сеансов и все! Волшебная сила биологической энергии, секреты тибетских монахов, тертый коготь тигра, растворенный в желчи беременной змеи и прочие волхования. Ну, а если честно, – сказал я, глядя на отцову недоверчивую физиономию, – хрен его знает! Если бы не ты, я бы, может, еще полгода ничего не заметил. А так, ну пропал и ладно!
– Темнишь ты, Филька, чего-то. Не одно у тебя, так другое. Депутат этот битый, командировка за границу. Денег вдруг появилось много. Ольга говорит, слишком даже много. Оно, конечно, дело твое, но смотри, если в какую некрасивую историю влипнешь, я тебе… – Он не придумал, чем меня можно запугать и скомандовал: – А сейчас дергай с полка!
Я не заставил себя уговаривать.
Вынести влажное пекло со стремительными перемещениями обжигающего воздуха от каждого взмаха веника, в которое превращает отец парное пространство, я не был в силах никогда. В детстве обычно просто отлеживался на полу или отсиживался в предбаннике. А он, похожий на бога-громовержца (или демона, что тоже недалеко от истины), ухая и хохоча будто филин, бушевал в своем мрачном (лампочка в бане слабовата, а оконце – не больше почтовой марки) поднебесье. Лет с шестнадцати и до сей поры я стоически превозмогаю дезертирские позывы организма на лавке. Если так пойдет дальше, то годам к сорока, возможно, смогу разделить с отцом это его вулканическое действо.
Хотя не уверен. Совсем не уверен!
Что же касается шрама… Кажется, потчевала меня Вероника в целях повышения кое-какой специфической производительности подозрительными таблеточками. От них еще аппетит улучшается. Уж не они ли причиной?
И, кстати, что у нас сегодня на ужин?
Под прикрытием темноты и непогоды я крался к пятиэтажке, в которой находилась квартира петуховского участкового милиционера. Моими спутницами были слякоть, осторожность и подозрительность. Других тварей, за исключением нескольких мокрых воробьев да пьяненького, смутно знакомого мужичонки, окружающая среда не содержала. Пьяненький, перекосившись, сидел на завалинке. Дождь его не мочил, и он тихонько пел для себя, воробьев и хлябей небесных унылую песню про безрадостную жизнь бродяги. На мое появление певец отреагировал агрессивным возвышением голоса: