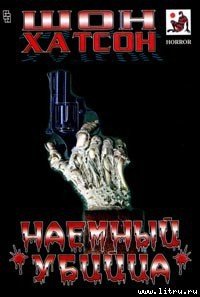Наёмный самоубийца, или Суд над победителем (СИ) - Логинов Геннадий (полная версия книги .TXT) 📗
Грань, разделяющая «искусство» и «не искусство», виделась для него предельно чётко и конкретно. И вместе с тем он не принимал расхожих взглядов, провозглашавших абсолютизацию субъективизма и отсутствие объективных критериев в искусстве.
В любом произведении искусства он прежде всего выделял три основных аспекта: субъективную составляющую, лежавшую в области вкусов и мнений, которую он, так или иначе (вопреки заявлениям некоторых лиц) признавал, при этом просто не возводя в абсолют; объективную составляющую, лежащую в области предметов и категорий, которые не зависели от чьего-либо субъективного мнения, но могли быть подвергнуты экспертному анализу; и духовный аспект (который, в его понимании, не был тождественен морально-этическому), определявший то, способствует, вредит или же, во всяком случае, не мешает ли данное произведение сближению человека (будь то творец или почитатель данного творения) с Богом.
Разумеется, многие могли бы назвать подобный подход всё так же субъективным. Но речь в данном случае и не шла о некой непреложной истине в последней инстанции. Конкретно взятый автор подходил ко всем вопросам со свойственным ему систематизмом, отличаясь от подавляющей массы авторов ещё и тем, что не писал абы как придётся, но вывел, пусть и не бесспорную, но чёткую и законченную творческую систему, претворяя в жизнь её максимы.
Во-первых, он решительно отвергал само понятие жанра и не пытался определить принадлежность своих произведений к тому или иному направлению. В его понимании, это был частный пример прокрустова ложа, к которому авторы прибегали в силу своей творческой лени, критики — из удобства навешивания ярлыков, а читатели — в силу насильственно привитой шаблонности мышления. Любой писатель, намеренно желающий творить в каком-то жанре, по сути ориентировался на некий шаблонный комплекс стереотипов и ожиданий читательских масс от литературы подобного рода, подчас принимаемых ими за непреложный канон. В то же самое время писатель, не ставящий перед собой подобной цели и задачи, просто описывал то, что счёл достойным своего времени и внимания, не испытывая необходимости втискивать свой труд в некие условные рамки. Это был принцип отсутствия жанровости. И хотя определение произведения как жанрового или нежанрового само по себе ни в коей мере не являлось оценочным, часто можно было увидеть, как несведущий критик берётся рассуждать о том, что автор «вышел за рамки жанра», когда, на самом деле, он в них и не находился.
Во-вторых, придерживаясь принципа единства восприятия, он в большей степени старался писать произведения небольшого объёма — стихи, рассказы и повести, которые было возможно осилить в один присест, не делая перерывов и не дробя восприятие фрагментарно, как при чтении большого романа. Впрочем, во всём была важна мера, ведь в противном случае подобный подход мог вылиться в голый эпиграмматизм и сборники афоризмов. Тем не менее, рекомендательный принцип не являлся непреложным каноном, и в творчестве нашего героя изредка встречались и крупные произведения.
В-третьих, в ответ почти на каждый вопрос о том, почему он взялся писать рассказ, стих или повесть на ту или иную странную и сложную тему, он со спокойной душой мог ответить: «Просто потому, что так захотел». И в этом был весь он: творческий человек, который продолжал бы писать даже в том случае, окажись он один на необитаемом острове посредине Тихого Океана, без возможности донести свои опусы хотя бы до единой живой души. Желание писать, заложенное в автора свыше, являлось основным и самодостаточным двигателем творческого процесса — всевозможные цели и задачи, которые могли стоять или не стоять параллельно с этим, были, как правило, чем-то вторичным. Исключая, пожалуй, некоторые произведения, акцентированные на вопросах религиозной тематики, имевшие в своей основе вполне конкретные цели для достижения, большинство его произведений было ориентировано скорее на процесс, чем на результат, не содержа в себе задачи что-либо донести или утвердить. Что вовсе не делало их пустыми, безыдейными или бессодержательными — просто, например, во главе угла его поэзии, вне зависимости от того, какие вопросы и образы она поднимала, стояла любовь к поэзии как таковая, а образы и вопросы возникали уже в процессе, как нечто естественное. Казалось, они просто сами хотели написаться, и делали то, что считали необходимым, формально позволяя писателю держать поводья.
Таков был принцип творческой самодостаточности. Но даже и тогда, когда у произведения имелась конкретная чёткая цель, параллельно с нею существовала и масса тем, которые автор порой даже и не планировал специально поднимать, но затронул.
По сути, автор совсем не обязательно желал донести какую-либо информацию, ведь вместо мыслей он мог желать донести некие чувства, ощущения, переживания, передать эстетический образ (который одолевал его, не давая покоя), не вполне осознавая, что он делает, почему и зачем, не вполне понимая собственное произведение даже и после написания. А сюжетность зачастую отходила на второй план, отдавая пальму первенства описательности и погружению в атмосферу.
Любое произведение по определению являлось генератором интерпретаций, и, как само собой разумеющееся, можно было предположить, что автор имел определённое мнение о том, в каком ракурсе он видит и трактует собственное произведение. Однако извечный вопрос о том, что же хотел сказать автор, виделся не вполне корректным по той причине, что мнение автора могло быть не в меньшей степени субъективным, нежели мнение обычного читателя, способного посмотреть на произведение под другим углом и извлечь из него такие выводы, которые даже не пришли бы создателю творения в голову. Соответственно, он не желал навязывать кому-либо собственное видение как единственно возможное и правильное, чему, вместе с тем, могло помешать название произведения, способное представить творение в определённом свете. Для того чтобы обойти этот неловкий момент, автор подходил к процессу создания названия для своих трудов как к созданию самостоятельного произведения — так, чтобы название само по себе привлекало, но, в то же время, не навязывало человеку однозначный взгляд на творение и не раскрывало его сути до конца прочтения.
Четвёртым, и не менее значимым китом, являлся игровой принцип, зачастую выражавшийся в экспериментах и поисках, делающих читателя соучастником процесса. Это могли быть всевозможные «пуанты», при которых последняя фраза переворачивала вверх дном восприятие, успевшее устояться за время прочтения; «парабола», при которой игра слов подразумевала единовременную множественность равнозначимых аллегорий; «инверсия», при которой произведение начиналось с того места, где должно бы логически закончиться, постепенно возвращаясь к точке, с которой, по идее, должно было бы начаться; «in media res», при котором произведение начиналось в контексте стремительно развивающихся событий, суть которых читателю приходилось осмыслять уже «на лету»; «мнимая проза», при использовании которой текст хоть и был записан по форме как проза, но содержал в себе прослеживающийся поэтический ритм; «ненадёжный рассказчик», при введении которого нарушался негласный договор автора и читателя, поскольку рассказчик сознательно или неосознанно начинал вводить читателя в заблуждение — либо в силу собственной инфантильности, либо в силу незнания, либо в силу психических отклонений или иных причин и обстоятельств; «взаимоцитатность», при которой персонаж из рассказа «А» мог читать фрагмент из истории с персонажем из рассказа «В», а персонаж из рассказа «В» — читать фрагмент из истории с персонажем из рассказа «А»; ну и так далее и тому подобное. Особое внимание при этом уделялось двум обрамляющим предложениям — тем, с которых произведение начиналось и которыми заканчивалось.
Во все времена существовало искусство, предназначение которого заключалось в том, чтобы прямо и в лоб рассказать о вещах, актуальных и важных в конкретный момент времени для конкретно взятых людей. И, безусловно, искусство такого рода имело все законные основания на жизнь, уважение и признание. Но вместе с тем параллельно с ним всегда существовало искусство иного рода, использовавшее партизанскую поэтичность метафор и таранную силу аллегорий для преодоления предубеждений и убедительного донесения идей и взглядов, актуальность которых не зависела от региона и эпохи.