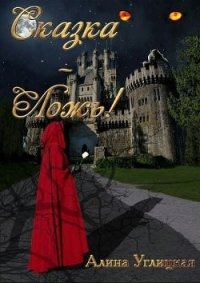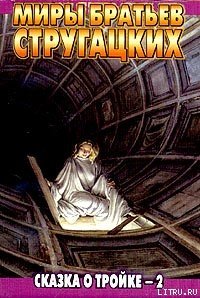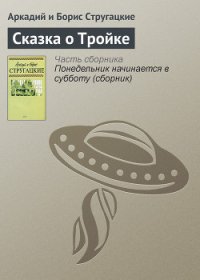Наследники по прямой. Книга первая - Давыдов Вадим (электронная книга TXT) 📗
— Никак нет, — щёлкнул каблуками под столом Чердынцев, продолжая сидеть. — Разрешите приступать?
— Разрешаю. А тянуться — это успеешь, Михаил Аверьянович. Мы с тобой, после всего, что случилось, — в общем, ближе иных родственников. По прямой. Ну, счастливо оставаться.
— Веруша.
— Ох! Яшенька, — просияла Вера. — Напугал. Что? Ты ко мне? Стричься?
— Стричься, но не я, — тряхнул головой Гурьев. — Поди-ка сюда, голубка.
Он взял Веру за локоть, подвёл к проёму, чуть приподнял занавеску:
— Моряка вон того, высокого, видишь? Михаилом зовут. Постриги его, Веруша. Как голову его возьмёшь в руки — так и не выпускай. Поняла меня, голубка? Поняла?
— Яшенька, — Вера задохнулась, закусила губу, посмотрела на Гурьева чёрными, полными слёз, глазами. — Да что же ты делаешь, Яшенька?!
— Делаю, что обещал. Не тебе — себе. Что могу — то и обещаю. А что обещаю — в общем, всегда могу. Сложится, не сложится — увидим. Почему-то такое у меня чувство, что сложится. Судьба твоя, Веруша, рядом ходит. Не прозевай.
— Я поняла, Яшенька. Поняла, — улыбнулась Вера. — Поняла. Не говори ничего. И я ничего не скажу.
— Вот, кивнул Гурьев. — Вот. Это правильно. Слов лишних — не надо. Не надо.
Ах, Господи, где же мы все у тебя помещаемся-то, подумала Вера, держась из последних сил, чтобы не разрыдаться в голос. Где же? Кто же может в сердце столько места для всех найти?! А сам… Сколько же людей, сколько людей Богу за тебя молятся, Яшенька. И я буду. Мы, вымолим, Яшенька, вымолим…
Он вернулся к Чердынцеву, присел рядом:
— Мастер Вера с тобой заниматься станет, каплей. Она — мастер, с большой буквы мастер, ты учти это, Михаил Аверьянович. И её не обижай.
— Что?!
— То. Должок за тобой, если помнишь.
— Сдурел ты? — тихо спросил, краснея, Чердынцев. — Сдурел. Кто ж… такое… приказывает?!
— Я, — спокойно ответил Гурьев. — И не приказываю — прошу. У неё муж погиб. Знаешь, как? Я расскажу, чтоб ты знал, Михаил Аверьянович. Ей не рассказал, а тебе — расскажу. Его забрали с днепростроевцами, следователь ему говорит: сознавайся в шпионаже на польскую разведку, гад, если не сознаешься — изнасилуем твою жену, а потом — дочку. Пять лет ребёнку. И в это время — женский крик в соседнем кабинете. Он кинулся на следователя и голыми руками глотку ему разорвал. Его застрелили на месте. Вот такие у нас времена с тобой, Михаил Аверьянович. Других нет. Извини.
Чердынцев взялся рукой за горло:
— Сколько… тому?
— Полтора года. Ей — двадцать шесть, дочке — седьмой год.
— Не староват я для неё? — криво усмехнулся Чердынцев.
— Ничего. Тоже мне, дядька черномор выискался. Ты смотри, Михаил Аверьянович. Дарья скоро крылышком тебе махнёт — и улетит. А тебе дом нужен, жена нужна — ты солдат, без пяти минут адмирал, воин. И Вера ещё сына тебе родить успеет, если дураком не окажешься. Жизнь, Михаил Аверьянович, имеет такое свойство интересное — продолжаться, не смотря ни на что. И у тебя, и у неё. У нас у всех. По глазам вижу — вопрос хочешь задать: почему?! Отвечу. Потому, что мне не нужен солдат, который хочет умереть. Солдат, который рассуждает: лучше смерть, чем такая жизнь, — мне не нужен. Мне нужен солдат, который хочет жить. Не выжить любой ценой, а жить. Солдат, который понимает: жить он сможет, если и только тогда, когда победит. Хочу, чтобы мои адмиралы и генералы были молодые. Такие же молодые — ну, чуть старше — как их солдаты и лейтенанты. Чтобы знали: там, дома, у солдата и лейтенанта, так же, как и у него, адмирала и генерала, молодая жена и дети, которым нужен муж и отец. Живой, а не ордена на подушке. Чтобы душа его была с ними, чтобы знал он, ради чего, почему и зачем. Хочу, чтобы всем — и солдатам, и генералам, и верховному главнокомандующему — было, что защищать, ради чего сражаться и на что надеяться. И никаких абстракций. Всё можно потрогать руками. Понял меня, Михаил Аверьянович? Усвоил?
— Усвоил. Всех учишь?
— Наставляю. Всех, каплей. Всех.
Сталиноморск. Октябрь 1940
Штольню в горе, которая вела к «объекту», успешно расширяли — необходимо было подготовить всё для съёмки, близкой по качеству к студийной. Чтобы всё было под рукой — если будет ещё, что снимать. Чердынцев уже полностью втянулся в новую работу, чему, как ни странно, очень помогали отношения с Верой, развивавшиеся не так быстро, как мечталось Гурьеву, но, без сомнения, в нужном направлении. Даша была в восторге — и от Веры, и от Катюши, и от развития отношений. Гурьев это видел — только боялся, что Даша спросит его о его собственных отношениях с молодой женщиной, а он — не сможет, да и не захочет солгать. Он не боялся, что Даша узнает — боялся, что почувствует. Интуиция у неё была — потрясающая. С такой даже ему, Гурьеву, приходилось нелегко.
Точно в срок, как и было рассчитано, в бухту Глубокую вошёл обещанный корабль — раскамуфлированный, балласт, увеличивший осадку на время пути, откачали уже в территориальных водах. Чердынцев, волнуясь, как мальчик, поднялся на борт. Приняв рапорт пожилого моряка — русского, но в американской форме, удивился, но виду не подал. Уж слишком был момент серьёзный для удивления. Гурьев тоже испытывал нечто, похожее на волнение: корабль просто поражал воображение. Одно дело — чертежи на бумаге, тактико-технические характеристики, и совсем другое — вживую. Семьдесят три тысячи тонн водоизмещения, силовые установки суммарной мощностью триста пятьдесят тысяч лошадиных сил, четыре башни по три шестнадцатидюймовых орудия, без малого три тысячи человек команды, включая техников и лётчиков, обслуживающих тридцать два палубных истребителя и восемь торпедоносцев. Плавучая крепость, сам себе война. К Глубокой уже протянули железнодорожную ветку — базу для такой махины дирижаблями не обслужишь. Вот теперь у тебя начнётся настоящая работа, каплей, подумал Гурьев. Здесь и сейчас.
На «приёмку» явился и Октябрьский — с целой свитой. Оцепление, состоявшее в основном из людей Шугаева, комфлота «без распоряжения товарища Царёва» пустить отказалось наотрез. Гурьев, помариновав его для вящего взбалтывания административного восторга минут десять, сменил гнев на милость — велел пропустить, но одного. Красный от злости Октябрьский влетел на пирс и, натолкнувшись на страшный серебряный взгляд «товарища Царёва», резко сбавил и скорость, и тон. А потом — увидел корабль. Зрелище этого чуда инженерной, оружейной и кораблестроительной мысли проняло даже Октябрьского. С придыханием он спросил:
— А что с наименованием? Есть какие-нибудь указания из Москвы по этому вопросу?
— Есть, — кивнул Гурьев. — Корабль решено назвать «Андрей Первозванный».
— Что?! — опешил Октябрьский. — Что Вы сказали?!
— А что такое?! — изумился Гурьев.
— Кха, — Октябрьский побагровел. — Это, кажется, апостол?
— Какой ещё к лешему апостол?! — вытаращился на него Гурьев. — Причём тут какая-то поповщина, товарищ Октябрьский?! Разве не слышали никогда эту фамилию?! Не может просто такого быть. Один из любимейших учеников Ленина, бесследно сгинувший в туруханских снегах, Андрей Савлович Первозванный. Несгибаемый большевик, искровец, член Троицкой боевой организации? Да что с Вами такое, товарищ Октябрьский?!
— А, — кивнул Октябрьский. — Да, конечно. Запамятовал. Действительно! Действительно. Заработался, товарищ Царёв. Сами понимаете — столько дел, буквально накануне…
Глядя на свекольную физиономию комфлота, Гурьев понимал: вот. Вот ради таких минут — стоило заваривать всю эту кашу. Ах, как же давно она заварилась. Как же, как же давно.
Сталиноморск. Ноябрь 1940
Гурьев взял у конвойного сержанта документы, бегло просмотрел, поставил подпись:
— Приведите заключённую и можете быть свободны. Паёк получите у коменданта. Вопросы?
— Никак нет!
— Выполняйте.