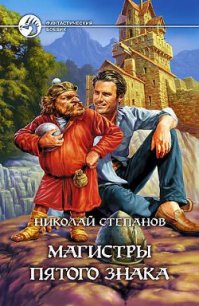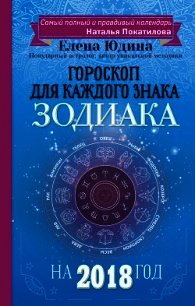Держатель знака - Чудинова Елена В. (лучшие книги без регистрации TXT) 📗
— И его стихи дали устойчивую прямую!
– А мне кажется, что это ничего не доказывает: Блок говорил как-то папе, что пролетарские поэты – это принципиально новые люди… Почему Вы думаете, Нина, что критерием их талантливости могут быть составленные Николаем Степановичем по нашим канонам таблицы?
– С Вами бесполезно спорить, Николенька: Вы не слышите оппонента, ибо в ваших ушах гремит пресловутая «музыка революции»…
– О чем речь?
– Так, об очередном полуграмотном гении, которого хотят протащить в Союз.
– Пусть едет в Москву и вступает в «Кузницу». Но мне думается, что его не протащат: слава Богу, атмосфера Союза становится все определеннее…
– Кстати, Чернецкой! Вы знаете насчет Шкапской и Павлович?
– Я слышал, что мэтру они слегка надоели: вторая – «алеющими корветами», которые день ото дня становятся все бездарнее: после того как Блок сложил с себя полномочия власти, ей место не здесь, а на большевистской партийной работе. Кстати, милая дама скромно умолчала о том, что приехала сюда не только от «красного мага», но и по протекции Крупской, которая ей благодетельствует. Павлович не глупа и чувствует, что уместно выставлять напоказ, а что рискует не пройти… А первая – не далее как сегодня он говорил, что его раздражает ее физиологизм, но он скорее не обращает на нее внимания…
– О, так Вы не знаете тогда, в чем суть скандала! На вечере в Мариинском она прочитала свое новое стихотворение, кстати, на его включении настоял Александр Александрович… «Людовику XVII»… «Народной ярости не внове Уняться лютою игрой, Тебе, Семнадцатый Людовик, Стал братом Алексей Второй. И он принес свой выкуп древний…» Далее не помню – словом, принес. Я видела, что Николаю Степановичу стало дурно до тошноты – он даже побелел весь… Потом сказал только одно: «И эта женщина – сама мать». Видно, ему основательно запало очистить Союз от блоковских истеричек… Не знаю, зачем он привел сейчас эту не свою, а Кузьмина точку зрения – скорее всего, он с ней согласен, но когда Шкапскую принимали в Союз, предпочел не высказываться, чтобы ей не повредить. Не знаю, может быть, у него просто не было настроения об этом говорить. Даже – скорее всего.
– Нет, по-моему, Вы все перегибаете палку: почему Шкапская не может считать казнь Цесаревича нравственно оправданной?
– А почему Пяст, как-никак – один из лучших друзей Блока, после «Двенадцати» не подал ему руки? Смотрите, Чуковский…
– Признателен за намек. – Чуковский, круто развернувшись, вышел из гостиной в зеркальный зал.
– Там что-то намечается? – кивнув ему вслед, спросил у Венгеровой Женя.
– Сегодня – среда.
– Ах ну да, конечно.
– А Вы очень неважно выглядите, «князь-оборотень»… Вы не больны?
– Благодарю Вас, Нина, не думаю.
– У Вас очень сыро.
– Зато уютно: моя комната удивительно напоминает гроб. Впрочем, в «обезьяннике» 64 куда более сыро.
Сквозь распахнутые двери в зеркальный зал было видно, как обитатели и гости Дома искусств привычно проходят в зал и отделанную темным дубом гостиную. Женя увидел спускающуюся по широкой лестнице из своей комнаты наверху баронессу Икскуль, навстречу которой шел уже Ходасевич – болезненно тонкий, желчный, с недавней сединой в прямых и черных, как вороново крыло, волосах, темноволосую живую коротышку Павлович, разговаривающую с Волынским и Пястом…
«…Общность цели гвельфов и гибеллинов, – подумал, усмехнувшись, Женя, – Союз поэтов… Воистину тесное объединение… враждующих партий».
– …«Аполлон», господа, все же ставил этот вопрос ребром еще в самом начале…
– То есть?
– Когда с революцией… еще номер запоздал, помните? В передовице от редакции прямо говорилось о том, что исторические памятники могут оказаться под угрозой и культурный долг общественности – сплотиться для их охраны…
– Кто мог знать, что вопрос встанет так остро…
– Да-с…
– Добрый вечер, Владислав Фелицианович!
– О, добрый вечер, добрый вечер…
…В голове гудело; Женя торопливо прошел через столовую и буфетную: в коридоре, которым начиналось общежитие, было пусто. Кое-где доносился стук торопливых шагов по крутым лесенкам и закоулкам – опаздывающие спешили к началу концерта.
Миновав пустую огромную кухню, где, против обыкновения, не распивал кипяток с сахарином старый елисеевский швейцар Ефим, Женя поднялся еще одной лесенкой, винтовой, напоминающей огромный чугунный штопор, прошел еще двумя коридорами и, наконец, отомкнул дверь своей комнаты.
Это была узкая, вытянутая в длину комнатка с оштукатуренными стенами и сводчатым потолком. Она вполне оправдывала с мрачной шутливостью данное ей Женей прозванье «гроба». В ней делалось тесно уже от кушетки и квадратного туалетного столика с мраморной доской, служившего одновременно письменным и обеденным столом – эти два предмета мебели вместе с кожаным саквояжем в углу и составляли всю обстановку. В комнате было до некоторой безжизненности аккуратно и чисто: этого впечатления не нарушали даже нарисованная углем на стене посолонная свастика с чем-то наподобие чертежа над ней… Впрочем, рисунок не производил впечатления мазни – в размашистых линиях чувствовалась уверенная рука…
…Войдя, Женя тщательно запер дверь. В коридоре было тихо – не доносилось ничьих шагов. Напряженное выражение внимания, проступившее в лице Жени, прислушавшегося к происходящему за дверью, спало вслед за неглубоким вздохом облегчения. Он отошел от двери и, не раздеваясь, упал на покрытую небольшим ковром кушетку – лицом в сужающийся серый потолок «гроба»…
«…Все …бежать некуда: день кончен вместе с его злобой… „Князь-оборотень“ привечает в своем гробу ночных гостей. А сегодняшние гости… Я свалял дурака – надо было думать об этом днем: а я был рад, что дела дня гонят мысли… Теперь же – некуда деться от них, совсем некуда.
Сережа Ржевский был на Гороховой.
Сережа – на Гороховой.
Смешно, Господи, да это же просто смешно – полтора года спустя все мое существо кричит этому «нет!», как будто возможно что-либо изменить…
Но ведь и времени – нет…
И в каком-то измерении Сережа до сих пор находится на Гороховой… И этого уже невозможно изъять из Великого Целого, эта чудовищная нелепость уже неисправима…
Этого не должно быть. Да, он не один раз был ранен, но это – высокий план Великой Битвы… В этом нет противоречия его ослепительной сущности…
А Гороховая – это низкий, невыносимо низкий для самого Сережиного существования план…
Господи, да как он вообще выжил?!
И выжил ли? Болезнь… вторая болезнь…
Ведь я же знаю их приемы! Лицом в плевательницу… Атмосфера унижения… Невыносимейший контраст: полная физическая зависимость мыслящей личности от ничтожнейшего существа, упивающегося своей властью… Или от ограниченной юной непогрешимой машины… Этакого человека-калеки, аппарата, задействованного на уничтожение «классового врага»… Второй вариант – ужаснее первого… В первом – сохраняется человеческая подоплека… Пусть уродливая, но – человеческая. Второе – ужас живой души в механической мясорубке… Этого не было в прежние века, когда физическое уничтожение человека было индивидуальным и исходило от людей… А здесь общий поток мясорубки – не с кем бороться, тебя, как и многих других, пропускают через нее юные, беззлобные к тебе лично, видящие в тебе абстрактную единицу «классового врага» машины…
Вся история изуверства прошедших веков сохраняла в себе человеческую связь, эмоциональное взаимодействие жертвы и убийцы… Как ни дико звучит, но в этом взаимодействии – последнее право жертвы… Именно его уничтожает сейчас Гороховая, и то, что грядет за ней, особенно то, что за ней… Живой связи более нет… Жертва в момент муки тщетно ищет взаимодействия с пустотой в человеческом обличье. Это – страшно.
Там всего много, на Гороховой…
Как же он задыхался там…
А унижение грязью, унижение скученностью!
Есть люди, которых там не пытают. Неизвестно – почему, но они есть… Я знаю, что не пытали бы меня… Но что-то я не очень уверен в том, что это распространяется на него…
64
Так называлась часть общежития, где жили Л. Лунц. А. Грин, Вс. Рождественский, В. Пяст.