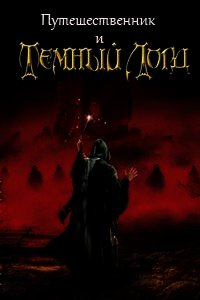Отрочество (СИ) - Панфилов Василий "Маленький Диванный Тигр" (книги хорошего качества txt) 📗
— Принцип, — он мрачно затянулся, — крайне прост. Голядева и её люди вьются вокруг тебя. Объяснение, в случае разбирательства с общественностью или судом, самое простое — у вас был конфликт, и теперь она боится влиятельного в уголовной среде человека.
— Пф…
— Формально не подкопаешься, — мотнул головой Владимир Алексеевич, — некоей толики известности и влияния у тебя достаточно. Приглядывают. Улыбнётся им удача, и… А вот тут гадать можно долго, от похищения до банальной слежки и сбора нехороших для тебя фактов.
— Тем паче, — задумчиво сказал он после минутной паузы, — што действия того же околотошного, да сиропитательный приют привязать к почтенной вдове будет затруднительно. Брали тебя без лишних видоков, и в сиропитательный приют ты попал фактически без имени. Если што и всплывёт, то свалят всё на покойного, Анна Ивановна перед законом и обществом чиста. И с каково это перепугу ты взъелся на почтенную вдову — объяснить, а главное — доказать, будет очень сложно.
Киваю угрюмо, седлая стул и опуская подбородок на высокую спинку.
— А полиция, — продолжаю за нево, — приглядывает со стороны, выискивая повод для вмешательства, но только если дам его я.
— Именно, — пыхнул дымом опекун, — и нагнетать обстановку таким образом можно долго, пока ты не сделаешь какую-то глупость. А ты сделаешь, и скорее рано, чем поздно.
— А на живца?
— Навроде такой, — невозмутимо подтвердил дядя Гиляй, — На какого живца?! Ты садишься играть против заведомого шулера, у которого помимо крапленых карт, дерринджер в рукаве и пара горлорезов в команде?
— Н-нет… — ох и жарко же стало морде лица! Действительно, глупость какая!
— Политика, — он остро глянул мне в глаза, — последнее, што тебе станут… хм, шить. Был бы ты постарше, то мог и бы и на каторгу отправиться, да на многие лета. А ребёнка за такое и судить как-то нелепо. Резонанс! Европейские газетчики, да и не только они, с превеликим удовольствием вцепятся в историю.
— А обида осталась, — мне ажно нехорошо стало от осознания, — да и могут тово-этово… превентивно! Если в такие малые лета успел отметиться, то лучше бы таково придавить в колыбели. Уголовщину будут выискивать, ну или выдумывать.
— Поэтому, — он встал, набулькав себе крохотную стопочку калганной, — ты уезжаешь.
— В Одессу? — сам не ожидал, но в голосе такая надежда зазвенела, што и неловко немножечко стало. Ну да… не успел приехать, а соскучился.
— В Палестину.
— Кх…
— В Палестину, — невозмутимо повторил опекун, постучав мне по спине жёсткой, как доска, ладонью, — в качестве репортёра.
— Шутите?! — я ажно вперёд подался, — До кайзера?!
— Не успеешь, — усмехнулся он моему энтузиазму, — паломническая поездка у него в самом разгаре, так што пока приедешь, Вильгельма уже и не будет. Так… вроде как по следам. Паломничество это всколыхнуло в нашем обществе большой интерес к Палестине, а русских репортёров там меньше, чем пальцев на одной руке. А места там интересные! Собирайся!
— А… э, документы?
— Уже, — усмехнулся Владимир Алексеевич, махнув рукой на кожаную папку, покоящуюся на краю стола, — паспорт, репортёрское удостоверение и прочее.
— Есть… — он ухмыльнулся нетрезво, — связи, знаешь ли.
Я проникся до самых што ни на есть глубин. Хлопотать о заграничном паспорте нужно неделями, а то и месяцами. А в моём случае, с неполной эмансипацией, и тово больше.
И пусть в документах написано, што я еду я с образовательными целями… Пусть! Хоть тушкой, хоть чучелом, а ехать надо! Не обязательно туда, а просто — отсюдова.
— Да! — спохватился он, — Ты о делах паломнических лучше даже и не пиши! Канонично и правильно всё равно не сумеешь, а когда и если споткнёшься, то тебе ныне всякое лыко в строку будет, уяснил?
— Зарисовки этнографические, — подсказал Санька, — и это… приключенистое тоже! Майнридовщина твоя в самую жилу читателям, а тут ещё и это… арабский Восток! Гаремы, верблюды, жиды палестинские. Экзотика!
Спешный сбор, и меньше чем через час мы с опекуном уже на поезде, направляющемся в Петербург. Тревожная ночь в вагоне второго класса, со сном вполглаза, и так же спешно — с вокзала, на грузовой пароход шведской компании, направляющийся с русским лесом в Грецию.
Сев на койке, я зябкими ногами нашарил пушистые меховые тапочки, не сбрасывая с плеч толстое шерстяное одеяло. Зыбкий пол норовил предательски уйти из-под ног, но крохотность каютки не дала ногам разгуляться.
Уткнувшись в холодный запотевший иллюминатор разгорячённым лбом, гляжу на свинцово-серые волны, бьющие в стальные бока парохода. Отдельные брызги долетают до самого иллюминатора, но вообще видно плохо — пусть по часам и день, но низкие нависшие тучи закрыли не только само солнце, но и кажется — заслонили весь белый свет.
Наверное, апокалипсис будет выглядеть как-то похоже — полное отсутствие солнечного света, холод и уныние, вымораживающее из потаённых глубин души всё самое хорошее. Беспросветность.
В маленькой каютке душно и одновременно холодно. Откроешь чуть-чуть иллюминатор, так выстужается моментально, и сразу сырость чуть не брызгами, засыхающая потом в тончайший солевой налёт. Закроешь, и сразу дышать нечем, только сырее стало. Такая себе зябкая, могильная духота, давящая на грудь увесистой чугуниной.
Только и радости унылой, што в двухместной каюте я один, мало желающих путешествовать по предзимней Балтике, да ещё и на грузовом по факту пароходе. Вроде как и жаль иногда, што нет попутчика, но тут как уж повезёт!
Какой-нибудь куряка, смолящий безостановочно одну цигарку за другой, задохнул бы даже тараканов. Да ещё и не факт, был бы не то што даже приятным, а хотя бы и сносным попутчиком. Лучше уж одному, чем с кем попало!
Заняться на судне решительно нечем. На палубе скользко, ветрено, и нешуточно опасно для сухопутново меня. Ограждение невысокое, а лееров ровно столько, сколько нужно для дела, а не для хватания.
Моряки из экипажа хмыкают только презрительно, для них это не шторм, а так — волнение. Экскурсии мне устраивать решительно не торопятся. Экипаж смешанный, шведско-датско-немецкий, и все — через губу.
Распоследняя палубная падла считает себя не где либо кем, а потомком викингов! В крайнем случае — истинным германцем, представителем высшей арийской расы. Неприятно и… какую-нибудь гадость хочется сделать, от всей широкой славянской души.
Только и радости, што качка не берёт! А из всех занятий — только еда три раза в день, да чтение.
Н-да… взял с собой в дорогу две книги Шолом-Алейхема [53], подаренные ещё в Одессе, но так и не читанные пока, да «Стену плача [54]» Менделе Мойхер-Сфорима [55].
Взять-то взял, но оказалось, што две из трёх — на иврите. Буковки всё те же, жидовские, а язык совсем другой. Обчитаешься! И был бы хоть словарик…
Шагнув с подножки вагона на перрон, Котяра повёл глазами по сторонам, и уверенно направился к указанному Коньком месту, где уже стоял мужчина, уверенно опознанный хитрованцем как «жидовский иван».
— Шалом алейхем, — поприветствовал он местново, — не вы ли будете Семёном Васильевичем?
— Шалом увраха, — отозвался мужчина, смерив парня пронзительным взглядом, — ви хотите таки сказать, шо имеете рекомендацию от нашево общево друга?
Вместо ответа Котяра приподнял шляпу. Короткая обоюдная проверка, вот уже жидовин расплывается в улыбке, и становится воплощением одессково гостеприимства.
— Егорка говорил за вас не очень много, но всегда хорошо, — сверкая фиксами, разливался Семэн (именно Семэн Васильевич, молодой человек!), — так шо могу сказать, шо заочно мы уже немножечко таки знакомы. Мой юный друг писал за вас, шо нужно немножечко спрятать, и по возможности пристроить к интересному делу, но может быть, вы имеет планы как-нибудь иначе?