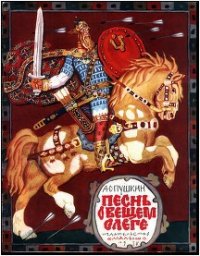Крепостной Пушкина (СИ) - Берг Ираклий (лучшие книги txt, fb2) 📗
— От Сивиллы нет известий? — вернул его в реальность император.
— Жду к вечеру, самое позднее — завтра утром, государь.
— Немедленно ко мне по получении. Пусть даже она скажет, что представления ни о чём не имеет. Ясно?
— Так точно, ваше импер...
— Не шуми. Ответ и указания я напишу ей лично.
Бенкендорф с пониманием кивнул. Сивиллой являлась его родная сестра, прозванная так ещё предыдущим императором, известным знатоком женщин, считающим, что по уму и неженской ловкости Доротея, как её звали, даст фору большинству мужчин дипкорпуса. Обворожительная супруга российского посла в Лондоне, благороднейшего князя Ливана, человека безукоризненных манер и воспитания, рыцарственного настолько, что англичане, эти известные скептики, не могли ответить ему ничем, кроме искреннего доверия и восхищения — эта женщина обладала всеми талантами и свойствами, потребными дипломату для того, чтобы восхищать своего государя, а не кого-либо ещё.
Блестящая пара была вхожа везде и знакома со всеми. Никогда — ни до, ни после — в Петербурге не обладали столь полной информацией о внутренней кухне английского «света». Доротея не просто узнавала всё возможное из первых рук (её салон был в числе самых блестящих и почётных в Лондоне), но в определённой степени и сама могла влиять на мнение ряда представителей британской знати.
Раз в неделю она отсылала письмо дипломатической почтой, поскольку родственные чувства были в ней весьма сильны. Увы, Александр Христофорович оказался куда менее щепетилен в этом вопросе и письма даже не читал, передавая всё адресованное «любезному брату» Несельроде, а «дорогому брату» — лично государю императору.
Сейчас же Николай требовал доставить ему любое письмо, какое только прибудет. Бенкендорф, разумеется, согласился.
Покидая дворец, он чувствовал себя очень уставшим, но то была приятная усталость победителя. Он сумел отстоять своё место. Нужно было работать, но это не пугало. Уж как-нибудь он сумеет добиться желаемого и представить тот результат, что поднимет его ещё выше. Начать же следовало с этих хитрецов, Пушкина и Безобразова, столь внезапно и демонстративно отмеченных императором.
Глава 20
В которой Степан знакомится со светским обществом, а светское общество знакомится со Степаном.
Александр Васильевич Никитенко страдал внешне и мучился внутренне. Он не любил салоны и тянулся к ним. Как это сложно — держаться просто! Легко сказать «быть самим собой», но каково при том быть как медведь и понимать это? Как сохранить приличие? Быть скромным и доброжелательным? Взять, к примеру, скромность. Не выставлять свои достоинства и тем более преимущества напоказ. Богатство, чин, знатность — ясно и без руководства по этикету, что тем кичиться недостойно, когда салонная культура подразумевает равенство общения. Это Никитенко понимал. С образованностью выходило труднее. Её, образованность, тоже не годилось подчёркивать, и, упаси боже, выпячивать. Но если ничего другого нет?
Сын крепостного графов Шереметевых, с детства отличающийся недюжинным умом, он сумел получить свободу с помощью принявших в том участие господ и сделать карьеру, в неполные тридцать имея должность адъюнкта кафедры русской словесности в Санкт-Петербургском университете.
Являясь человеком весьма сдержанным, Никитенко носил на себе клеймо убеждённого «либерала от народа», чем привлекал внимание и ценился, а также был принят во всех значимых литературных салонах столицы. Власть утверждала, что народ против всего иностранного и чужд любым модным западным веяниям. Никитенко своим существованием служил обратным примером, отчего был обласкан и даже любим салонной публикой.
Имя, если можно так выразиться в данном случае, сделала ему история с одним из стихотворений Виктора Гюго. Образованных людей в стране существенно недоставало, и надо же было такому случиться, что уровень образования Александра Васильевича был кем-то сочтён достаточным для занятия должности цензора. На этой должности он допустил к печати строки с участием некоего шалопая, предлагающего «прохладу райских струй» и «гармонию миров» неведомой красавице за поцелуй, а заодно державу, трон, скипетр и прочую мелочь — за один только взгляд. Церковь возмутилась, было доложено государю. Император прочёл стихотворение и не одобрил подобное расточительство. Никитенко получил восемь суток гауптвахты и славу.
Как человек не только умный, но и наблюдательный, подмечавший многочисленные нюансы, Александр Васильевич не мог не видеть, что ему решительно недостаёт воспитания. Не того воспитания, что учит стремиться к добродетели и избегать пороков, не того, что говорит, в какой руке держать вилку и когда снимать шляпу, а того, что закладывается с детства самой средой жизни обеспеченных дворян и что для них естественно, как дышать. Будучи человеком не их круга, он видел, что его простота и естественность — совсем не то, что у них, и замечал за собою то гнетущую его скованность, то заставляющую краснеть развязность.
Никитенко сердился, злился, ругал себя за хождение «со свиным рылом в калашный ряд», выплёскивал обиду на страницах дневника, обещал себе собрать волю в кулак и отказаться от подобного времяпровождения, но всякий свободный вечер ноги сами несли его в общество, от восхитительного вкуса которого он не мог уже отказаться.
Как человек, строгий не только к другим, временами он назначал сроки, по достижению которых требовал от себя стать достаточно «приятным», уподобиться всем этим дамам и господам, что были «приятны» в отношении него. Они не обращали внимания на чужие, то есть его, Никитенко, оплошности, дружно помогали сглаживать допускаемые им неловкости, внимательно выслушивали и доброжелательно поддерживали. Обидно было то, что всё это не стоило им ни малейших усилий, большинство не то что не догадывалось, но и не задумывалось вовсе, что этот «мужик во фраке» оттого несчастен.
Нынешний вечер выходил у него особенно неудачно. Во-первых, было непривычно много людей «в чинах», даже для столь известного салона Долли Фикельмон, а инстинктивный страх перед чинами слишком глубоко въелся в его натуру — с самого крестьянского детства. Времена изменились, мальчик вырос, но сам отлично знал, что любой новоиспечённый корнет или прапорщик чувствует себя более вольно перед самим государем, чем он перед любым офицером, тем же корнетом или прапорщиком. Страх подавленный, спрятанный глубоко, но от этого не менее сильно ранящий самолюбие.
Во-вторых, отсутствовала сама Долли. Это был первый случай на его памяти, когда хозяйка покинула гостей более чем на час — и те немножко пошли вразнос. Нет, всё оставалось прилично, но наличие хозяйской руки, взгляда и голоса — непременных атрибутов любого званого вечера — считалось всё-таки обязательным. Кто-то засмеялся громче, чем следовало, другой отпустил каламбур капельку менее тонкий, чем стоило, третий... Никитенко встал у стены и ругал себя за то, что пришёл и не может теперь уйти.
Все обсуждения крутились вокруг одного — сгоревшего императорского дворца, и можно было поспорить, что эта тема останется основной не менее чем на ближайший месяц.
Одни вздыхали о несчастье, другие намекали, что несчастье одного быть может счастьем для другого, третьи уже не намекали, а говорили прямо, что следует искать след, четвёртые усмехались, ищите, мол, а нам и так всё известно, а что известно — не скажем, пятые уже недобро поглядывали на четвёртых, и неизвестно, как далеко всё могло бы зайти, не вернись наконец Долли.
Всё сразу стихло, и более двух десятков пар глаз с любопытством заметили, что вернулась она не одна.
— Ах, господа, простите меня, простите, но все вы не откажете в понимании, когда позволите мне объясниться, — Долли оставила своего спутника и пролетела, словно порхая, по салону, успевая одарить улыбкой каждого, и заняла своё привычное место.