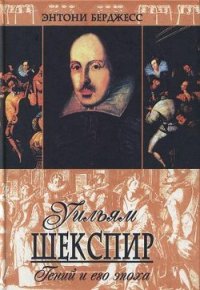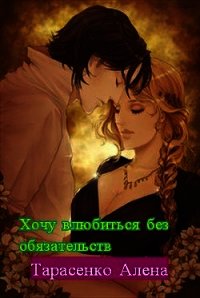Свидание с другом - Вольпин Надежда Давыдовна (лучшие бесплатные книги .TXT) 📗
Открывается она есенинской поэмой «Кобыльи корабли» (такие стихотворения, построенные как триптихи, тетраптихи и прочая, в те далекие времена именовались поэмами).
Хорошо отточенным карандашом, полагаю, химическим — он не стерся и по сей день,— Есенин вычеркивает несколько строк в третьей и пятой главках и надписывает сверху своим бисерным почерком — каждая буковка раздельно — новые варианты. В печати они появятся позже. Вот эти правки.
Главка третья, строфа четвертая (последняя). Напечатано:
Причащайся соломой и шерстью,
Жуй твой хлеб и растя овес.
Славься тот, кто наденет перстень
Обручальный овце на хвост.
Первая строка оставлена неизменной. Три последние (карандашом) читаются так:
Тепли песней словесный воск,
Злой октябрь осыпает перстни
С коричневых рук берез.
Главка пятая, заключительная. Третья строфа читается:
В сад зари лишь одна стезя,
Череп с плеч только слов мешок.
Все познать ничего не взять
В мир великий поэт пришел.
Жирно вычеркнуты вторая строка и четвертая. Строфа теперь зазвучала так:
В сад зари лишь одна стезя,
Сгложет рощи октябрьский ветр.
Все познать ничего не взят
Пришол в этот мир поэт.
(Заметьте: нет — и не вставлено! — запятой между «познать» и «ничего», и «пришол» — не «пришел»).
— Ну, зачем, по-вашему, я внес эти правки?
Я знаю поэму наизусть и правку принимаю не безболезненно. Мне жалко, что отброшен образ «череп — мешок слов» и заменен словами об октябре, уже прозвучавшими в третьей главке. Высказать прямо? А не обидится?
— Не поняли? Вы же сами поэт, должны понять.
Было шатко: «великий мир» или «великий поэт».
А мне подумалось: подобные замечания («ловля блох») мы в нашей «Зеленой мастерской» постоянно делаем друг другу, но только как бы в учебном порядке — прими, мол, к сведению, чтоб избежать такого же в дальнейшей работе: написанного не правим. А вот Есенин, установившийся и признанный поэт, правит уже напечатанное! Для меня, моих друзей отработанное как бы костенеет. Но как не отметить, что после правки стих стал крепче. И я говорю:
— Что убрали «великий» — это хорошо: «поэт» без эпитета, да еще вынесенный в конец, на рифму, звучит сильней и становится «великим» сам собой, без бахвальства.
Смотрим вместе правку в третьей главке. Здесь ведь тоже, говорю я, сдвиг: для глаза «обручальный», а на слух вроде бы «обручальная овца». Но дело скорее в другом: уже поженили поэта с овцой, к чему теперь поминать обручение? Новым вариантом устранен не только сдвиг — устранена тавтология.
(Через многие годы Анатолий Мариенгоф в своем «Романе без вранья» объяснит, что правка была здесь вызвана не смысловым, а чисто формальным соображением: потребовалось устранить именно эту «обручальную овцу».)
— А можно спросить? — говорю я несколько позже: — Что такое «Трерядница»?
И Есенин растолковывает мне, что есть особая техника иконописи: изображения — сразу три — делаются на планочках, укрепляемых ребром. Смотришь прямо — видишь один образ, справа поглядишь — другой, слева — третий. Вот такая троякая икона и зовется трерядницей.
ХЛЯСТИК И КАНОТЬЕ
Май двадцатого года, Хлебный переулок. Пьём с Сергеем пойло, морковное, что ли, которое тогда заменяло нам чай.
— Красивая комната,— говорит не в первый раз мой гость и останавливает глаза на курантах. Нет, не старинных: скорее то, что в начале века называлось «стиль модерн» (разные там квадратные розы и чайки под Художественный театр). Комната и впрямь хороша и просторна — все двадцать пять метров!
— Вещи тут не мои. Хозяйка их распродает одну за другой. На очереди эти куранты.
— Нет, нет. Вы их удержите.
— Уже просватаны.
— Не отдавайте. У вас стоят, значит, ваши. Закон!
Но знаю: по закону мне должны оставить на чем спать, стол и стул. Да и сняла я комнату по знакомству — не наживать же врага вместо доброй и заботливой хозяйки.
— Она отдаст за бесценок, деньги проест и через неделю сама пожалеет. Не выпускайте их,— учит Сергей.
— С радостью бы откупила их сама, да не на что. Я же их и просватала.
Понимаю: комната ослепнет, когда их увезут, эти куранты!
Есенин возвращается к окну, к столу: выбирает из «собственной» стопки свой «Голубень». Томик сам собой раскрылся на стихотворении того же названия. Строфа «Ночлег, ночлег...» отчеркнута.
— Что, понравилось? Или, наоборот, смутило?
— Очень понравилось. Это — и еще про коня:
Бредет мой конь, как тихая судьба.
Кстати, в обеих этих строфах есть у вас и шестистопные строки. И еще их несколько. Особый расчет — или нечаянная небрежность?
— Как бы вам сказать... Сознательно, конечно. Это, как иной франт велит портному оставить кончик хлястика незакрепленным. Пусть болтается. Нарочитая небрежность.
Сравнение с хлястиком... Как оно было бы естественно (и не запомнилось бы), примени его поэтесса! Я вспомню его через несколько дней при случае со шляпой.
Очень жаркий день. Обедаю в СОПО. Входит Есенин. Подсаживается к моему столику. Снял шляпу — соломенную шляпу-канотье с плоским верхом и низкой тульей,— смотрит, куда бы ее пристроить.
— А не к лицу вам эта шляпа,— сказала я.
Не проронив ни слова, Сергей каблуком пробивает в донце шляпы дыру и широким взмахом меткой руки запускает свое канотье из середины зала прямо в раскрытое окно!
Я знала его уже достаточно и не польстилась мыслью, что расправа со шляпой учинена в мою честь. Подумалось: да скажи ему кто угодно, что не к лицу,— ну, хоть эта пожилая подавальщица, и шляпу постигла бы та же участь. Ради меня разве лишь картинность жеста. И я протестую:
— Зачем же так! Сперва купили бы другую! Как вы пойдете в это пекло с непокрытой головой!
И припомнился хлястик.
ТОНКАЯ ШТУЧКА
Очень теплый апрельский день. Я со службы, но еще совсем светло. Стою перед книжным лотком в СОПО. Отобрала стопку книг. За мной вырастает Есенин, заглядывает через мое плечо. Слышу:
— Что вы тратите ваши денежки на всякий хлам! Мне сразу становится смешно и весело.
— Да у меня их так мало! На что другое и не хватило бы.
В самом деле, цены на книгу, даже на букинистическую, очень низки. Все-таки замечание Есенина врезалось в мое сознание. Это он что же, учит меня бережливости? Черта больше крестьянская, чем городская.
— И не все хлам. Смотрите — я тут раскопала клюевский «Сосен перезвон». А прочее... беру просмотреть: когда с эстрады слушаешь, многое кажется значительным, а проверишь глазом — пустая трескотня.
Завязывается разговор о поэтах.
— Клюев... Вы, небось, думаете: мужичок из деревенской глуши. А он тонкая штучка. Так просто его не ухватишь. Хотите знать, что он такое? Он — Оскар Уайльд в лаптях.
Уайльд в лаптях! По тону не ясно, сказано это в похвалу или в осуждение. Скорей второе. Но еще и с вызовом самозащиты: вы, может, и обо мне судите, как о каком-то лапотнике: туда же, суется... с суконным рылом в калашный ряд поэзии! А вы раскусите-ка нас, что мы в себе несем!
Позже, в беседе со мной осенью двадцать первого года Есенин стал мне рассказывать о древней русской литературе,— великой литературе, которую «ваши университетские и не ведают — только с краешку копнули. Она перевесит всю прочую мировую словесность. Ее по монастырским подвалам надо выискивать, по раскольничьим скитам. И есть у нее свои ученые знатоки, свои следопыты. Ее всю жизнь отдай. — как надо, не узнаешь».
Есенин говорил уже взахлеб, все больше разгораясь. И в заключение добавил:
— Вот в этом знании Клюев — академик!
А глубоко ли сам он, Сергей Есенин черпал из этой древней сокровищницы? Прямо не спросишь. Мой осторожный вопрос он оставил без ответа.
ПОЩЕЧИНА. СУД
Об этом кое-что уже печаталось. И не однажды. Мне остается рассказать полнее — и, может быть, точнее.
Среди прочих «измов» бытовал в поэзии к концу второго десятилетия так называемый экспрессионизм. А его глашатаями именовали себя юные тогда поэты Николай Земенков и Ипполит Соколов (кто еще, не припомню, кажется, Гурий Сидоров). В августе 1919 года, впервые переступив порог СОПО, я с книжного лотка у входа приобрела белую книжечку в шестнадцать страниц, озаглавленную: Ипполит Соколов «Полное собрание сочинений». А на титульном листе еще значилось: «не посмертное» и ниже: «не стихи» — хотя в книжице были только стихи! Чем только не засоряла я тогда свою молодую, еще очень емкую память, но из экспрессионистов мне запомнилось — на двоих! — полстроки «...гондола губ». И запомнилось-то лишь по ударению на первом слоге «гондолы» — как меня заверили, истинно итальянскому.