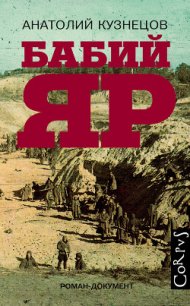Союз еврейских полисменов - Чабон Майкл (читаем книги онлайн без регистрации txt) 📗
– Ничего, – сообщает Ландсман Тененбойму, придавая голосу искусственную бодрость. Это словечко кажется ему одновременно предсказанием результата собственного расследования – расследования убийства так называемого Эмануила Ласкера, констатацией цели жизни убитого – и не только его одного, – а также пророчеством относительно того, что останется от родного города Ландсмана после Реверсии. – Ничего.
– Знаете, Кон говорит… – начинает Тененбойм, замолкает и тут же заводит снова: – Кон говорит, что в доме гуляет привидение. И гадит не хуже домового. Кон полагает, что это призрак профессора Заменгофа.
– Если б эту драную дыру назвали моим именем, я бы тоже бузил здесь в виде призрака.
– Кто знает, – вздыхает Тененбойм. – Особенно сейчас.
Сейчас никто ничего не знает. Вон у Поворотны кот огулял крольчиху. Пусики котокрольчики украсили первую полосу «Ситка тог». В прошлом феврале пять сотен свидетелей клялись, что две ночи кряду наблюдали северное сияние в виде лика мужеского пола при бороде и пейсах. Вспыхнули жаркие дискуссии о принадлежности небесного лика, о выражении физиономии мудреца в пейсах. Иные истолковали его гримасу как улыбку, исполненную печали мягкой, другим казалось, что небесный старец нюхнул чего-то… необычного. И вообще, что бы это знамение могло означать? А не далее как на прошлой неделе ощипанный кур в кошерной мясохладобойне на Житловски-авеню обратился главою к занесшему ритуальный нож шохету и на картавом арамейском возгласил непременное пришествие Мессии. Если верить «Тогу», чудодейная курица выдала еще некоторое количество поразительных предсказаний, напоследок впав, однако, в молчание, подобно Б-гу Самому, и упустив упоминание о супе, в коем закончит земной путь свой. Обратив даже самое поверхностное внимание на все эти события, думает Ландсман, можно заключить, что странное дело нынче быть не только евреем, но, пожалуй, и курицей тоже.
3
Ветер снаружи небрежно стряхивает дождичек со своего развевающегося плаща. Ландсман притулился в тамбуре гостиницы. Снаружи двое борются с непогодой, стремятся ко входу в «Жемчужину Манилы». Одного оседлал футляр виолончели, другой прячет от дождя скрипку, не то альт. Городская филармония находится в десятке кварталов от этого конца Макс-Нордау-стрит и вообще в ином измерении, но нет в мире силы, которая бы смогла удержать еврея от желания причаститься к свиной отбивной, хороню прожаренной, но сочной, смачной, желанной, как нежная возлюбленная. И уж конечно, не справиться с этим желанием какой-то там темной ночи и жалким порывам ледяного ветра с залива. Сам Ландсман тоже героически борется – с призывами комнаты номер пятьсот пять и находящейся в ней бутылки сливовицы, рядом с сувенирной рюмашкой-стопариком Всемирной выставки.
В качестве стратегического контрманевра Ландсман раскуривает папиросу. Десять лет не курил, но вот года три назад снова схватился за соску. Жена его тогдашняя носила во чреве своем – в каком-то смысле долгожданная беременность. Первая. Но не запланированная. Как и в случае многих беременностей, о которых слишком долго рассуждают, в отношении отца наметилась некоторая двойственность, амбивалентность. Через семнадцать недель и один день – в этот день Ландсман купил первую за десять лет пачку «Бродвея» – их ошарашили неблагоприятным прогнозом. Многие – хотя и не все – клетки, составлявшие плод, уже носивший кодовое наименование Джанго, выявили в двадцатой паре лишнюю хромосому. Это обозначалось термином «мозаицизм» и могло повлечь тяжелые отклонения в развитии. А могло и вообще никак не проявиться. В литературе по данному вопросу оптимист мог найти основания для надежды, а маловер – для отчаяния. Точка зрения Ландсмана, не просто маловера, а ни во что не верующего, возобладала, и какой-то врач с полудюжиной ламинарных расширителей разорвал нить жизни Джанго Ландсмана. Через три месяца Ландсман со своими сигаретами покинул дом на острове Черновиц, в котором жил с Биной в течение почти всех пятнадцати лет после свадьбы. Нельзя сказать, что его изгнало оттуда чувство вины. Но чувство вины плюс Бина… слишком много, не вынести.
По направлению ко входу в «Заменгоф», прямо на Ландсмана. целеустремленно пыхтит старик. Коротышка, не выше пяти футов. Волочет за собой здоровенный чемодан на ручной двухколесной тележке. Длинное белое пальто нараспашку, под ним белый костюм-тройка, на голове белая же широкополая шляпа, нахлобученная по самые уши. Борода и пейсы тоже белые, густые, но в то же время пушисто-дымчатые. Чемодан – какое-то музейное чудище из потертой парчи и чуть не до дыр протертой кожи. Правая часть тела деда сжалась под тяжестью чемодана-монстра, наполненного, похоже, исключительно свинцовыми отливками. Старик останавливается и поднимает палец, как будто обращаясь к Ландсману с вопросом. Ветер играет его бакенбардами и полями шляпы. С бороды, подмышек, рта, костюма ветер срывает запахи табака, пота и человека, живущего на улице. Ландсман отмечает цвет ботинок старика: желтоватой слоновой кости, как и борода. По бокам ботинок взбираются вверх и исчезают под штанинами кнопки.
Знакомое явление. Это Ландсман тоже отмечает. Знакомое по тем временам, когда он еще задерживал Тененбойма за мелкие кражи, незаконное приобретение и хранение… Дед этот тогда не был моложе – да и сейчас не постарел. Народ величал его Илиею, поскольку имел он обыкновение появляться в самых неожиданных местах со своей коробкою-пушке и с видом, что он вот-вот разразится чем-то весьма информативным.
– Дорогуша, – обращается дед к Ландсману. – Это, что ль, постоялый двор «Заменгоф»?
Идиш его звучал несколько экзотически, с налетом голландского, как показалось Ландсману. Старец согбенный, хлипкий, однако лицо его, если отвлечься от лучиков морщин, исходящих от глаз, чуть ли не юношеское, морщин как будто и вовсе никаких. Глаза, как принято выражаться, горят молодым задором, что сильно озадачило Ландсмана. Вряд ли задор этот могла вызвать перспектива провести ночь в отеле «Заменгоф».
– Совершенно верно, – подтверждает Ландсман и протягивает Илие-Пророку пачку «Бродвея». Тот вытаскивает две папиросы, одну отправляет в реликварий нагрудного кармана пиджака. – С горячей водой. И холодной. Лицензированный шамес на страже безопасности постояльцев.
– А ты, милок, значит, приказчиком будешь?
Ландсман улыбается, отступает в сторону, показывает внутрь.
– Нет, администратор там, в холле.
Но кроха-старик стоит, не желает покидать уютный дождь, борода его развевается, как белый флаг перемирия. Он озирает безликий фасад «Заменгофа», его слепые окна, серые в уличном освещении, окна-щели, прорезанные в грязном белом кирпиче. Всего три-четыре квартала от кричащей, пестрой Монастир-стрит. Неоновая вывеска «Заменгофа» мигает ночным кошмаром постояльцев «Блэкпула».
– Заменгоф, – повторяет старик, косясь на беснующиеся буквы вывески. – Не Заменгоф… Заменгоф…
По улице поспешает латке, нахальный салага по фамилии Нетски, придерживает рукой широкополую форменную шляпу.
– Детектив, – пытается доложиться латке, теряет дыхание, кивает деду. – Привет, дедуля. Детектив, извините, срочный вызов, задержался на минутку. – От Нетски пахнет свежевыпитым кофе, на правой манжете его синей куртки белеет сахарная пудра. – Где покойник?
– В двести восьмом, – просвещает его Ландсман и еще на шаг отступает в сторону, поворачивается к деду. – Ну, как, дедуля, заходим?
– Нет, – отвечает Илия беззлобно, чуть ли не ласково. С сожалением? Или с мрачным удовлетворением человека, привыкшего испытывать разочарования? Рьяный блеск глаз скрылся за пеленою слез. – Я просто поинтересовался. Спасибо, офицер Ландсман.
– Детектив, – поправил Ландсман, удивленный памятью старика. – Вы меня помните, дедуля?
– Помню, все помню, дорогой. – Илия вытаскивает из кармана пушке – деревянную шкатулочку-гробик размером с портсигар. Коробка выкрашена в черный цвет, на ней надпись на иврите: «Л'ЭРЕЦ ИСРОЭЛЬ». В коробке узкая прорезь для монет или сложенных долларовых бумажек. – Скромное пожертвование?