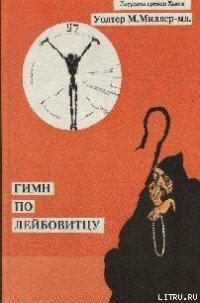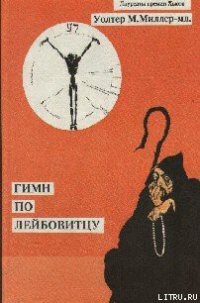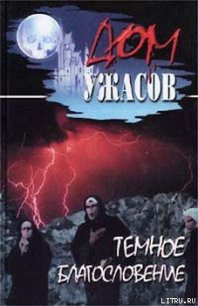Гимн Лейбовичу - Миллер-младший Уолтер Майкл (лучшие книги без регистрации TXT) 📗
– Скажи мне, что ты о нем думаешь?
– Я не встречался с ним. Но я думаю, что он обернется болью. Болью рождения, вероятно, но болью.
– Болью рождения? Ты действительно веришь, будто мы идем к новому Возрождению, как говорят некоторые?
– Хммм-хннн…
– Перестань ухмыляться так таинственно, старый еврей, и сообщи мне свое мнение. Ты просто обязан его иметь. Оно у тебя всегда было. Почему так трудно завоевать твое доверие? Разве мы не друзья?
– Некоторым образом, некоторым образом. Но между нами есть кое-какие разногласия.
– Какое отношение имеют наши разногласия к дону Таддео и к Возрождению, которое мы оба с нетерпением ждем? Дон Таддео – светский ученый, он весьма далек от наших разногласий.
Беньямин красноречиво пожал плечами.
– «Разногласия… светский ученый», – повторил он, выплевывая слова, как яблочные семечки. – Определенные люди называли меня «светским ученым» в разные времена, а порой за это сажали на кол, побивали камнями и сжигали на кострах.
– Но ведь ты никогда…
Священник остановился, сурово нахмурившись. Опять это безумие. Беньямин с подозрением смотрел на него, и от его улыбки продирал озноб. «Сейчас, – подумал аббат, – он смотрит на меня так, будто я один из тех, неких бесформенных „тех“, которые привели его в это уединение. Сажали на кол, побивали камнями и сжигали на кострах? Или его „я“ означает „мы“, как в псалме „Я, мой народ“?»
– Беньямин, я – Пауло. Торквемада мертв. Я родился больше семидесяти лет тому назад и скоро умру. Я люблю тебя, старик, и когда ты смотришь на меня, я хочу, чтобы ты видел только Пауло из Пекоса, а не кого-то другого.
На мгновение Беньямин дрогнул, глаза его повлажнели.
– Я иногда… забываю…
– Иногда ты забываешь, что Беньямин – это только Беньямин, а не весь Израиль!
– Никогда! – закричал отшельник, его глаза снова загорелись, – За тридцать два столетия я… – он остановился и крепко сжал губы.
– Почему? – прошептал аббат почти с благоговением. – Почему ты принимаешь бремя всех людей и бремя их прошлого на себя одного?
Глаза отшельника на миг тревожно вспыхнули, но он проглотил готовый вырваться крик и закрыл лицо руками.
– Ты ловишь рыбу в мутной воде…
– Прости меня.
– Бремя… оно возложено на меня другими. – Он медленно отвел руки. – Мог ли я не принять его?
Аббат затаил дыхание. Некоторое время в лачуге не было слышно ничего, кроме ветра. «На этом безумии лежит печать божественности! – подумал дом Пауло. – В наше время еврейская община рассеяна редкими группами. Беньямин, вероятно, пережил своих детей или каким-то иным образом стал изгнанником. Этот старый израильтянин мог странствовать годами, не встречая никого из своих соплеменников. Наверное в своем одиночестве он пришел к молчаливому убеждению, что он последний, единственный. И, будучи последним, он перестал быть Беньямином и стал Израилем. И в его душе вся пятитысячелетняя история превратилась в историю его собственной жизни. Его „я“ превратилось в величественное „мы“.
«Но и я также, – думал дом Пауло, – являюсь членом некоего единства, частью некоей общности и непрерывности. Я тоже презираем миром. Правда, для меня еще ясно различие между моим „я“ и народом. А для тебя, старый еврей, это различие как-то затуманилось. Бремя возложено на тебя другими? И ты принял его? Сколько же оно должно весить? И сколько бы оно весило, если бы я принял его? Он подставил под него плечи и попытался поднять, чтобы определить его вес. Я – христианский монах и священник, и я, следовательно, отвечаю перед Богом за все действия и дела каждого монаха и священника, который дышал и ходил по земле со времени Иисуса Христа, так же, как и за мои собственные действия. – Он вздрогнул и помотал головой. – Нет-нет. Она раздавит хребет, эта ноша. Она не под силу никакому человеку, спаси нас Христос. Быть проклятым за свою веру – уже достаточное бремя. Можно сносить проклятия, но тогда… следует ли принять бессмысленность, стоящую за проклятиями, бессмысленность, которая заставляет одного отвечать не только за себя, но также и за каждого представителя его расы или веры, как за свои собственные? Принять это так же, как пытается это сделать Беньямин?
Нет, нет».
И еще собственная вера дома Пауло говорила ему, что бремя всегда есть, что оно было еще со времен Адама… и бремя это налагается дьяволом-искусителем. «Человек! Человек!» – призывает каждый, отчитываясь за дела всех с самого начала. Бремя возложено на каждое поколение еще до его рождения, бремя первородного греха. Пусть глупец оспаривает его. Тот же глупец с великим восторгом принимает другое наследие – наследие родовой славы, добродетели, торжества и благородства, которое делает его «отважным и великодушным по праву рождения», и при этом не выказывает никакого протеста, – мол, он не сделал ничего, чтобы заслужить это наследство, кроме того, что родился человеком. Этот протест оставляется для получаемого в наследство бремени, которое делает его «виновным и отверженным по праву рождения»; чтобы не слышать этого приговора, он старается плотнее закрыть уши. Бремя, несомненно, тяжелое. Его вера говорила ему также, что это бремя будет снято с него тем, чья фигура свисала с креста над алтарем, хотя печать бремени все еще витала над ним. Печать эта была более легким ярмом по сравнению с полным весом первородного проклятия. Он не мог заставить себя сказать об этом старику, хотя старик и так уже знал, что он верит в это. Беньямин искал иного. И последний старый еврей одиноко сидел на горе и искупал грехи Израиля, и ждал Мессию, и ждал, и ждал, и…
– Господи, благословляю тебя за храброго глупца. Даже мудрого глупца.
– Хмм-хнн! «Мудрого глупца»! – передразнил отшельник. – Ты ведь всегда специализировался на парадоксах и таинствах, не так ли, Пауло? Если вещь не находится в противоречии с самой собой, она тебя не интересует, ведь правда? Ты хочешь отыскать таинственность в ясности, жизнь в смерти, мудрость в глупости. Иногда все это проявляется сходным образом.
– Чувствовать ответственность – это мудро, Беньямин. Думать, что ты можешь нести это бремя один – глупо.
– Но не безумно?
– Вероятно, немного безумно. Но это смелое безумие.
– Тогда я выдам тебе небольшую тайну. Я всегда знал, что не могу нести его, еще тогда, когда Он приказал мне идти. Но разве мы говорим об одном и том же?
Аббат пожал плечами.
– Ты называешь это бременем Избрания. Я назвал бы это бременем первородного греха. В обоих случаях подразумевается та же самая ответственность, хотя мы имеем в виду разные ее толкования и сильно расходимся в словах, вернее в смысле, который мы вкладываем в них, хотя на самом-то деле его там вовсе нет. Это нечто, что предполагается в мертвом молчании души.
Беньямин тихо засмеялся.
– Ладно, я рад слышать, что ты хотя бы допускаешь его существование, даже если, как вы утверждаете, это то, что никогда не было высказано.
– Прекрати насмехаться, ты, порочный человек.
– Ты слишком многословен, защищая свою троицу, хотя Он никогда не нуждался в такой защите, до тех пор, пока ты не получил его от меня в виде Единого. А?
Священник покраснел, но ничего не сказал.
– Вот тут! – взвизгнул Беньямин, прыгая вверх и вниз. – Я заставил тебя однажды искать доводы! Ха! Ладно, это пустяки. Я сам использую всего несколько слов, но я никогда не уверен полностью в том, что Он и я имеем в виду одно и то же. Я полагаю, что ты не заслуживаешь осуждения… с тремя легче запутаться, чем с одним.
– Старый богохульный кактус! Я действительно хочу узнать твое мнение о доне Таддео и обо всей этой заварухе.
– Почему ты интересуешься мнением бедного старого анахорета?
– Потому, Беньямин Элеазар бар Иошуа, что хотя все эти годы ожидания Того, кто еще не пришел, не прибавили тебе мудрости, но они, по крайней мере, сделали тебя проницательным.
Старый еврей закрыл глаза, обратил свое лицо к потолку и хитро улыбнулся.
– Можешь меня оскорблять, – сказал он насмешливо, – можешь поносить меня, травить собаками, гнать меня, но… ты знаешь, что я тебе скажу?